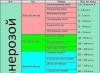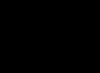Иоанн родился в Антиохии около 347 года в грекоязычной семье состоятельного чиновника. «По рождению и воспитанию» он, по словам протоиерея Георгия Флоровского, «принадлежал к эллинистическим культурным кругам малоазийского общества. Этим объясняется его высокая личная культурность, аристократическое благородство его облика, известная светскость его обхождения. От культурности Златоуст не отказывался и тогда, когда отрекался от мира и от всего, что в мире» . Отец святителя Секунд умер вскоре после рождения мальчика, и его воспитанием занималась мать, Анфуса, посвятив всю себя сыну. Когда он подрос, мать позаботилась дать ему классическое образование. Курс риторики Иоанн прошел у лучшего специалиста в этой области антиохийца Либания, который, пораженный талантом ученика, собирался передать ему свою кафедру, но препятствием к этому явились твердые христианские убеждения Иоанна и его рано сложившиеся аскетические устремления. Язычник Либаний сетовал впоследствии на то, что христиане похитили его лучшего ученика. В Священном Писании Иоанна наставлял предстоятель Антиохийской Церкви святитель Мелетий. В 367 году он крестил Иоанна и три года спустя поставил его в чтеца. После ссылки Мелетия, которой тот подвергся при императоре Валенте в 372 году, Иоанн изучал богословие под руководством антиохийских пресвитеров Флавиана и Диодора, позже поставленного на Тарсийскую кафедру. Вместе с ним у них учился и известный впоследствии богослов Феодор Мопсуестийский, который был осужден V Вселенским собором как главный виновник несторианской ереси. Иоанн Златоуст, воспитанник антиохийской богословской школы с ее библейским реализмом, неприязнью ко всякого рода отвлеченному теоретизированию и пассивной созерцательности, с ее обостренной чуткостью к нравственным проблемам, с ее всецелой приверженностью идеалу, начертанному в Нагорной проповеди, стал самым последовательным выразителем идей и установок этой школы.
После кончины матери Анфусы Иоанн оставил родной город и нашел прибежище в монастырях Сирии, потому что мир, принявший Христа, представлялся ему далеко отстоящим от подлинного преображения Евангелием. В пустыне он приобрел аскетический опыт, но и, по словам А.В. Карташева, «нажил себе на всю жизнь тяжелый катар желудка» , так что впоследствии мог питаться только рисовой кашей, запивая ее разбавленным вином. В течение двух лет святой Иоанн пребывал в безмолвии, уединившись в пещере.Ревностному монаху и знатоку священных книг, обладавшему также блестящим классическим образованием, предлагали епископскую кафедру, но, исполненный бескомпромиссно высокого представления о епископском служении, он уклонился от епископства, написав в связи со своими размышлениями на эту тему «Шесть слов о священстве», ставших краеугольным камнем православной пасторологии. Пребывая в пустыне, Иоанн создал также труды, посвященные иноческому подвижничеству: «Против вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни».
Возвратившийся в Антиохию из ссылки святой Мелетий призвал к себе Иоанна и посвятил его в диакона в самый канун II Вселенского собора. Совершая диаконское служение, Иоанн находил время для богословского творчества, написав такие творения, как «Книга о девстве», «К молодой вдове», «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников».
Преемник Мелетия Флавиан в 386 году хиротонисал Иоанна в пресвитера, предоставив ему храм, расположенный в древней (впоследствии затопленной) части Антиохии. В этом храме более десяти лет, обыкновенно дважды в неделю, при стечении множества людей, часто приезжавших из дальних мест послушать знаменитого проповедника, святой Иоанн произносил проповеди, прославившие его имя во всем христианском мире и снискавшие ему прозвание Златоуста. Эти проповеди стенографически записывались его почитателями и редактировались им самим. В Антиохии им были произнесены поучения на праздники, слова, темой которых является обличение пороков и наставление в борьбе с грехами, а также толкования на священные книги.
Ветхозаветным Писаниям посвящены «Девять бесед на Книгу Бытия», еще «Шестьдесят семь бесед» на ту же книгу, «Беседы о Давиде и Сауле», «Беседы о пророчествах Ветхого Завета», «Беседы на псалмы», «Беседы на пророка Исаию», «Беседа об Иове», «Беседы о святых Маккавеях» и ряд других творений. Экзегеза Нового Завета содержится в его «Беседе на Евангелие от Матфея» и «Беседа на Евангелие от Иоанна», «Беседах на Деяния», «Беседах в похвалу апостолу Павлу», «Беседах на Послание к римлянам», на «Два Послания к коринфянам» и на другие послания апостола Павла.
Иоанн Златоуст не знал еврейского языка и комментировал ветхозаветные книги по Септуагинте, но в толкованиях на Новый Завет он обнаружил тончайшее понимание стилистических особенностей текста, языковых нюансов; в них во всем блеске проявилось его тонкое чувство стилиста. Даже в грамматических формах, употребляемых новозаветными писателями, он улавливает богословски важные оттенки смысла Писаний. В то же время его толкования не плод кабинетных штудий, рассчитанных на эрудированного читателя, но живое пастырское слово, призванное извлечь из богодухновенных Писаний поучение, обращенное ко всякому человеку, стремящемуся жить по заповедям, либо сказанное для того, чтобы тех, кто из праздного любопытства пришел послушать проповедника, уловить в апостольские сети и побудить к обращению и перемене жизни.
Для святого Иоанна этический пафос христианства неразрывно связан с сотериологией. Истолковывая разные места священных книг, он вновь и вновь напоминал людям, что нет иного пути ко спасению помимо исполнения заповедей во всей их евангельской полноте и высоте. Святитель воспринимал слово Божие, в том числе и изреченное пророками в ветхозаветную эпоху, как живое и действенное во все времена человеческой истории. С удивительной естественностью он актуализировал священные книги; отталкиваясь от их сюжетов или содержащихся в них идей и наставлений, он высказывался на злобу дня, по острым проблемам современности, нередко иллюстрируя мысли священных писателей примерами, почерпнутыми из повседневной жизни своего века.
Ученик Диодора Тарсийского, святой Иоанн следовал экзегетической традиции, сложившейся в антиохийской школе, выявляя исторический контекст священных книг. По характеристике протоиерея Георгия Флоровского, он «был близок к буквальному пониманию боговдохновенности… В Писании нет ничего лишнего и напрасного - ни единой иоты, ни единого слога… И даже в обмолвках или разногласиях старается вскрыть Божественный смысл… Священные писатели писали и говорил “в Духе” - или говорил в них Дух. Однако это наитие Духа Златоуст решительно отличает от одержимости: сознание и ум остается ясным и уразумевает внушаемое. Это, скорее, озарение. И в этом существенное отличие профетизма от мантики. Поэтому священные писатели не теряют лица. И Златоуст всегда останавливается на личности писателя, на обстоятельствах написания отдельных книг» . Методы антиохийской экзегезы святитель Иоанн не доводил до абсурдной крайности. Высоко ценя буквальный смысл священного текста, он не считал его приемлемым во всех случаях и отвергал буквальное понимание библейских антропоморфизмов, прилагаемых к Богу.
Мысль пригласить знаменитого проповедника на вдовствующую столичную кафедру пришла на ум всесильному тогда временщику Евтропию, вероятно, по двум основным соображениям: украсить Константинополь знаменитостью и в надежде на то, что, человек не от мира сего, Иоанн не в состоянии будет заметить его неприглядные интриги. Евтропий опасался, что Константинопольскую кафедру в противном случае займет ставленник влиятельного и властолюбивого архиепископа Александрии Феофила. Феофил перемещение в столицу выходца из антиохийской школы пережил как поражение Александрии и уже тогда затаил мысль о реванше, возненавидев святого Иоанна.
Не без колебаний Иоанн принял приглашение, и в начале 398 года состоялась его епископская хиротония.
В Константинополе святой Иоанн ввел антифонное пение за всенощным бдением, составил несколько молитв чина елеосвящения. Под его именем известно чинопоследование литургии, употребляемое по сей день и представляющее собой сокращение литургии Василия Великого.
Как и в родной Антиохии, святитель регулярно произносил в столице проповеди, теперь уже с самого высокого амвона, и они привлекали к себе всеобщее внимание, мало кого оставляя равнодушным. И тут обнаружилось, что Евтропий ошибся в расчетах, которыми он руководствовался, предлагая пригласить на столичную кафедру Иоанна. «Человек не от мира сего» оказался зорким и в высшей степени неравнодушным обличителем не только личных грехов людей, но и общественных пороков и язв и в своих проповедях крепко задевал сильных мира сего, виновных в страданиях «малых сих» - нищих и убогих, обиженных и оскорбленных. Не требуя отмены рабства, святитель Иоанн, однако, напоминал о его языческом происхождении, о его несовместимости с христианскими нравственными идеалами. Своею жизнью он подавал пример подлинно христианского отношения к ближним. Он не устраивал, не в пример своему предшественнику, званых пиров для городских вельмож и уклонялся от приглашений столичной знати на подобные пиршества. Средства, которые выдавались на содержание архиерейского дома, святитель тратил на устроение больниц и приютов, раздавал нищим. Всем этим он вооружил против себя городских богачей, которые обвиняли его в том, что он соблазняет народ, разжигает антагонизм и вражду между сословиями, между имущими и неимущими. Его невзлюбили многие из подведомственных ему константинопольских клириков, успевшие разбогатеть и развратиться. Суровые меры, которые он применял по отношению к недостойным пастырям, настраивали против него и тех, кто уже был им наказан - нередко лишением сана, и тех, кого, ввиду его образа жизни и непримиримого отношения святителя к порокам духовенства, ожидала подобная мера.В его проповедях, посвященных социальной теме, звучал голос библейских пророков. И как древние пророки бичевали грехи избранного народа, вновь и вновь попиравшего заповеди Божии и тем обнаруживавшего свою склонность к религиозному прелюбодеянию, а еще более - преступления правивших народом судей и царей, так и святой Златоуст с амвона константинопольского кафедрального храма произносил исполненные праведного гнева и скорби слова, обличавшие поверхностное, по существу дела лицемерное исповедание Христа новообращенными массами, не пережившими евангельского преображения ума и сердца, оставшимися в жизни своей язычниками, и в особенности злодеяния правителей и начальников, которые своими публично известными личными грехами искушали народ, а своими правительственным делами ожесточали его. «У него, - по словам протоиерея Георгия Флоровского, - было впечатление, что он проповедует людям, для которых христианство стало лишь модной одеждой. “Из числа столь многих тысяч, - говорил он, - нельзя найти больше ста спасаемых, да и в этом сомневаюсь”… И с горечью говорил он о наступившем благополучии: “Безопасность есть величайшее из гонений на благочестие - хуже всякого гонения”… Златоуста смущал нравственный упадок - не только разврат, но больше всего молчаливое снижение требований идеалов… Не только среди мирян, но и в клире… “Никто не остался бы язычником, если бы мы были действительными христианами”» .
Одна из главных тем проповеди святителя - богатство и бедность. Как христианин и пастырь, как учитель народа, он не мог оставаться равнодушным к скандальному для христианского общества контрасту роскоши и нищеты. Свое обличение богатства он распространял даже и на старания украшать церкви, приобретать для них драгоценные сосуды, роскошные отделочные материалы, противопоставляя внешнему великолепию церковного убранства евангельскую простоту и бедность: «Не серебряная тогда была трапеза, не из золотого сосуда Христос преподавал питие - кровь Свою ученикам. Однако же все было там драгоценно и возбуждало благоговение, ибо было исполнено Духа. Хочешь почтить тело Христово? Не презирай, когда видишь Христа нагим… Что пользы, если трапеза Христова полна золотых сосудов, а сам Христос томится голодом… Ты делаешь золотую чашу, но не подаешь в чаше студеной воды… Христос, как бесприютный странник, ходит и просит кров, а ты, вместо того чтобы принять Его, украшаешь пол, стены, верхи столбов, привязываешь к лошадям серебряные цепи - а на Христа… связанного в темнице, и взглянуть не хочешь» .
Зло богатства для проповедника евангельской бедности главным образом заключается в том, что не только неправедные пути его стяжательства, но и сама привязанность к нему губит душу, потому что делает человека пленником страсти стяжательства и удаляет от служения Богу. Более того, душепагубно не только стремление приобрести богатство, но и чрезмерная озабоченность о приобретении необходимых вещей. Душевредность богатства распространяется не только на тех, кто им обладает или стремится его приобрести, но и на обделенных им, потому что бедность спасительна тогда только, когда переносится благодушно, но в сердцах духовно немощных бедняков она способна породить губительную зависть, ненависть или отчаяние.
Корень социальной несправедливости и всеобщего неблагополучия святитель усматривал в частной собственности, ибо высшая справедливость заключается в том, что все земное достояние по природе вещей принадлежит Богу, а служить призвано удовлетворению насущных потребностей всех: «Если наши блага принадлежат общему Владыке, то они в равной степени составляют достояние и наших сорабов: что принадлежит Владыке, то принадлежит вообще всем… И все царское принадлежит всем: города, площади, улицы принадлежат всем; мы все в равной мере пользуемся ими… Касательно того, что принадлежит всем, не бывает ни малейшей распри, но все совершается мирно. Если же кто-нибудь покушается отнять что-либо и обратить в свою собственность, то происходят распри, как будто вследствие того, что сама природа негодует, что в то время, когда Бог отовсюду собирает нас, мы с особым усердием стараемся разъединиться между собою, отделиться друг от друга, образуя частное владение, и говорить эти холодные слова: “То твое, а это мое”. Тогда возникают споры, тогда огорчения… Следовательно, для нас предназначено скорее общее, чем отдельное владение вещами, и оно более согласно с самой природой» .
Социальный идеал общности имущества святитель Иоанн находил до конца осуществленным в первоначальной христианской общине, которая во все века церковной истории служила прообразом общежительного монашества: «Это жестокое и произведшее бесчисленные войны во вселенной выражение: мое и твое - было изгнано из той святой Церкви, и они жили на земле, как ангелы на небе: ни бедные не завидовали богатым, потому что не было богатых, ни богатые не презирали бедных, потому что не было бедных. Ныне подают бедным имеющие собственность, а тогда было не так… Во всем у них было равенство, и все богатства смешаны вместе» .
Неприятие частной собственности как явления противоестественного и греховного дало основание называть святого Иоанна проповедником христианского социализма. В известном смысле это приемлемая аттестация, но для того, чтобы быть корректной, она должна учитывать следующие обстоятельства: при всем своем этическом максимализме святитель стоял на твердой почве трезвой христианской антропологии, основанной на понимании радикального значения для человеческой истории и условий человеческого существования, в том числе и в социальном измерении, первородного греха, последствия которого не преодолены до конца и самой крестной смертью Христа, так что упразднение неравенства возможно лишь в эсхатологической перспективе, и он не разделял утопических иллюзий хилиастов, мечтавших о построении Царства Божия на земле и этой своей мечтой заразивших социальных утопистов последующих веков. Более того, святой Иоанн не был прожектером и реформатором, он был далек от мысли призывать правителей к конфискации частной собственности. Признавая рабство противоестественным установлением, он не требовал его отмены, считаясь, как трезвый мыслитель, как реалист, с силой общественных предрассудков, но он напоминал рабовладельцам о том, что по природе они ничем не отличаются от подвластных им рабов, и призывал господ к человеколюбию. Тем более он не предлагал радикальных и революционных способов преодоления греховного социального неравенства. Святитель никогда не призывал народ к бунту; напротив, в знаменитых словах «О статуях», произнесенных в Антиохии, когда там, в связи с введением нового налога, возникло возмущение, в ходе которого были низвергнуты статуи императора Феодосия Великого и его супруги Флакиды, он призывал народ к повиновению законной власти.
Квинтэссенция его рассуждений о государстве и власти, содержащихся в словах «О статуях» и других его проповедях, произнесенных уже в Константинополе, заключается в том, что хотя власть, по его убеждению, является одним из проявлений греховного неравенства, но она установлена Богом ввиду падшего состояния человечества. Если бы не было власти и господства, общество было бы ввергнуто в борьбу всех против всех, так что власть призвана противодействовать преступным посягательствам грешников. Но греховны и носители самой власти, употребляющие ее не по совести, и дело пастыря - обличать как власть имущих, так и подвластных, не посягая при этом на неприкосновенность законной власти, даже если она прибегает к порочным методам властвования. Еще более важный долг пастыря - нести слово утешения неправедно обиженным и страдающим.Не предлагая реформ, святой Иоанн не оставался пассивным созерцателем и теоретизирующим обличителем общественных язв. Напротив, он призывал паству к деятельной любви к ближнему и сам являл убедительный пример служения людям. Средства, предназначавшиеся для содержания архиепископии, он употребил на устроение и содержание больниц и гостиниц для паломников. Обличая пороки мирян и являя пример заботы о ближнем и христианского аскетизма, святитель по отношению к клирикам, жизнь и дела которых не соответствовали их сану, прибегал не только к увещеваниям, но и к применению архипастырской власти. Он велел удалить из домов целибатных клириков их подозрительных «сестер» и потребовал от состоятельных диаконис отказаться от роскоши, а монашествующим запрещал свободно разгуливать по городу. Подобными мерами он нажил себе врагов в константинопольском духовенстве. Знать же считала святого, отказывавшегося, не в пример своему предшественнику архиепископу Нектарию, ходить на званые обеды к богачам столицы, гордецом.
Многих раздражало его бесстрашие перед лицом сильных мира сего. А он произносил проповеди, задевавшие временщика Евтропия, который, однако, после своего падения укрылся в алтаре соборного храма под защитой святителя Иоанна, и тот не выдал его, так что несчастный евнух тогда только вышел из укрытия, когда получил гарантию сохранения ему жизни, на чем настаивал архипастырь. Когда новый временщик, Гайна, требовал предоставить его соплеменникам и единоверцам - готским федератам - один из константинопольских храмов (ариане имели право собираться на молитву за городской стеной), Иоанн настаивал на сохранении привилегий кафолической Церкви, и всесильному Гайне было отказано в удовлетворении его требования. Но Иоанн Златоуст был чужд какой бы то ни было ксенофобии и охотно совершал богослужения в православной готской церкви.
Святитель не устрашился встать на защиту от конфискации имущества вдовы и детей опального сановника, чем вызвал раздражение у супруги императора Евдоксии. Его противники своими интригами сумели вызвать у нее стойкую неприязнь к Златоусту. Проповедь, в которой он обличал суетных и тщеславных женщин, любящих украшать себя роскошными нарядами, была представлена ей как нацеленная лично против нее, так что Евдоксия стала искать способа избавиться от назойливого моралиста. Но расправа над архипастырем, популярным в народе и у тех клириков, которые с духовным горением совершали свое служение, по одному только политическому обвинению, без церковного суда, представлялась делом рискованным, способным вызвать опасные волнения. Поэтому, с одной стороны, нужно было найти повод для предания Иоанна соборному суду, а с другой - надо было подобрать ему замену, найти такого кандидата на столичную кафедру, который бы не ударил в грязь лицом как проповедник.
Так возникла идея представить Евдоксии епископа Кавальского Севериана, который, подобно Иоанну, в свое время учился у Либания и был действительно красноречивым оратором, причем стилистически близким Златоусту, так что некоторые из его слов оказались впоследствии включенными в сборники творений святителя Иоанна. Севериан произвел ожидаемое благоприятное впечатление на августу, и она пригласила его крестить своего новорожденного сына Феодосия. В этом предстоятель столичной Церкви усмотрел нарушение традиции, и в отношениях между ним и Северианом возникло напряжение. Еще одно малозначащее происшествие довело дело до прямого конфликта. Севериан обвинил ближайшего помощника святого Иоанна диакона Серапиона в том, что тот однажды при встрече с ним не поклонился ему. Святитель отреагировал временным запрещением помощника, но Севериану этого было мало: он настаивал на пожизненном запрещении. Но в этом требовании ему было отказано, и Севериан с демонстративной обидой покинул Константинополь. Огорченная отъездом Севериана Евдоксия потребовала примирения. И вот в один из воскресных дней она «явилась в церковь рано, до литургии. Иоанн сидел уже на своей кафедре. Императрица быстро подошла к епископу, положила ему на колени маленького Феодосия и во имя младенца просила простить Севериана. Златоуст был подавлен этим моральным насилием, но взял на себя подвиг формально помириться с Северианом» .
Интриганы продолжали плести свои сети, аккуратно собирая обвинительный материал против святителя. «Златоуст не был изощренным администратором. Думал о пользе дела, а не о канцелярских формах. Он увидел недвижно лежащую груду мрамора», предназначенную для постройки церкви, и «велел продать ее и выручку раздать бедным. Не совещаясь ни с кем, ставил кандидатов в епископы, и даже скопом - четырех за один раз. В диаконы поставлял даже вне чина литургии» . Но этого было мало для того, чтобы низложить архипастыря, которого в народе, весьма и весьма способном настоять на своем, почитали святым, - правители империи всегда чувствовали над собой дамоклов меч народных волнений, легко перетекающих в мятежи.
Дело компрометации святителя наконец взял в свои руки один из самых влиятельных епископов своего времени - предстоятель Александрийской Церкви Феофил, человек сильный, властный, упорный, искусный в интригах, лишенный особой щепетильности и моральной брезгливости - иными словами, способный, может быть, и не на все, но на многое. Иоанна он невзлюбил с самого его поставления на Константинопольскую кафедру, потому что у него были другие виды на нее. Его главной церковной заботой был, судя по всему, статус занимаемой им кафедры, которую он, как и другие александрийские епископы, после состоявшегося на II Вселенском соборе церковного возвышения Нового Рима не хотел считать стоящей ниже столичной.
Поэтому он был задет до глубины души, когда Иоанн принял обращенную к нему, как епископу имперской столицы, но также, вероятно, и ввиду его личного авторитета, просьбу выступить в качестве третейского судьи по делу, возникшему в Эфесской митрополии. Епископы Эфесской Церкви обвинили своего митрополита Антония в нарушении порядка поставления епископов. Выехав в Эфес, святой Иоанн на месте вник в суть обвинений и признал их справедливыми, на основании чего он объявил низложенными как самого Антония, так и 13 хиротонисанных им лиц. На Эфесскую кафедру был поставлен Ираклид. Не только Антоний, но и архиепископ Александрии нашли в этом акте Златоуста канонически недопустимое вторжение в чужую область.
Между тем в действительности ситуация с границами юрисдикции Константинопольской кафедры в период между II и IV Вселенскими соборами содержала в себе элемент неопределенности: с одной стороны, 3-м правилом II Вселенского собора Константинопольский престол был поставлен на второе место в диптихе после Римского с особым подчеркиванием его аналогии с Римом ввиду столичного статуса Нового Рима; а с другой - только Халкидонский собор обозначил территориальные пределы юрисдикции столичной кафедры, подчинив ей три диоцеза, в том числе Азийский с его главным городом Эфесом. Но IV Вселенский собор лишь узаконил практику, уже раньше входившую в традицию. И святой Иоанн действовал в русле этой традиции. И до него епископы Азии, Понта и Фракии не раз обращались к архиепископу столичной кафедры как первенствующему среди них, тем более что епископы Рима являли многочисленные примеры приема и рассмотрения апелляций от епископов и клириков западных Церквей, не находившихся в их прямой юрисдикции, и лишь в отдельных случаях из этого вырастали осложнения и конфликты во взаимоотношениях кафедр. Но Феофилу Александрийскому действия, предпринятые Златоустом в Эфесе, послужили содержанием главной статьи обвинения против него.
Он, однако, давал себе отчет в том, что одно только обвинение во вмешательстве в дела чужой церковной области может оказаться неубедительным или недостаточным для соборного осуждения, поэтому для вящей надежды на успех решил вооружиться еще и обвинением Иоанна в ереси, а именно в приверженности учению Оригена. Причем надо сказать, что если, обвиняя святого Иоанна в каноническом преступлении, Феофил мог искренне считать себя правым, то он не мог обманывать себя относительно недобросовестности обвинения своего противника в ереси: святой Иоанн, как истинный антиохиец, не был приверженцем оригенизма. Подобно другим богословам своей эпохи, он читал и знал Оригена и в каких-то отношениях пользовался его богословским и особенно экзегетическим наследием, но не разделял заблуждений александрийского богослова ни относительно предсуществования душ, ни даже об апокатастасисе. В противоположность воззрениям Оригена, «самая многочисленность христиан, - по меткому наблюдению протоиерея Георгия Флоровского, - смущала [его]: “Тем больше пищи для огня”» , - говорил Златоуст. Более того, в действительности Феофил сам был бо льшим приверженцем Оригена, чем его противник. Его подчеркнутый антиоригенизм был лишь конъюнктурно избранной позицией, которую он оставил после того, как дело было сделано - Иоанн осужден и скончался в далекой ссылке. «Удовлетворенный победой» Феофил, по замечанию А.В. Карташева, «не ополчался уже на Оригена. Он продолжал пользоваться им при случае. Ведь другого источника учености у него и не было. А на ядовитые замечания не без лукавства отговаривался: “Ориген - это луг, на котором растут разные цветы и травы. Надо умело их разбирать, чтобы пользоваться”» - резонное суждение, но после расправы над святым Иоанном, обвиненным среди прочего и в оригенизме, наполненное особым цинизмом.
История превращения Феофила из почитателя Оригена, которым он был некогда, в заядлого антиоригениста началась с конфликта между ним и монахами Нитрийской пустыни, которых он справедливо осуждал за антропоморфизм - одной из причин этого заблуждения было элементарное невежество. Преподобный Иоанн Кассиан писал, что один из египетских монахов, когда ему объяснили, что нельзя Богу усваивать человеческие качества, следуя буквальному пониманию библейских мест, где говорится, например, о руках или стопах Творца, хотя и согласился с основательностью доводов своих наставников, но при этом «со скорбью сказал, что у него “отняли Бога” и он теперь не знает, как ему молиться» .
В пасхальном послании 399 года Феофил обличал антропоморфистов, но, когда задетые этими обличениями нитрийские монахи, вооружившись дубинами, пришли в Александрию к резиденции своего епископа, тот порядком напугался. Ему с трудом удалось успокоить ревнителей, сказав им: «Отцы, я смотрю на вас как на образ Божий» , но впредь он решил их уже не озлоблять. Между тем не все монахи Нитрийской пустыни пребывали в столь глубоком невежестве - и несогласных с ними невежды, представлявшие Бога в телесном виде, обвинили в оригенизме. Впрочем, среди нитрийских монахов был и действительный оригенист Евагрий, выходец из Понта, с которым сблизился переселившийся в Египет из родной ему Галатии Палладий, автор знаменитого патерика под названием «Лавсаик». Но в глазах простодушных антропоморфистов, в основном имевших коптское происхождение, все, кто не разделял их заблуждений, уже по одному этому оказывались оригенистами. И вот Феофил, чтобы угодить способным на бунт неспокойным пустынникам, в 400 году открыл войну против наследия Оригена и оригенистов.Среди нитрийских монахов было четверо «долгих братьев», прозванных так за свой высокий рост: Диоскор, Евсевий, Евтихий и Аммоний. Они не разделяли антропоморфистских заблуждений и у своих оппонентов прослыли оригенистами. Феофил ценил их за просвещенность и хиротонисал Диоскора во епископа Гермопольского, а Евсевия и Евтихия - в пресвитеров, а вот Аммоний, верный старой монашеской традиции уклоняться от священства, предпочел урезать себе ухо и угрожал лишить себя языка, чтобы только избежать рукоположения, чем вызвал неприязнь со стороны своего властного епископа.
Открыв кампанию искоренения оригеновской ереси, Феофил добился у местного префекта распоряжения о высылке «долгих братьев» из Нитрийской пустыни. И, по словам А.В. Карташева, «не откладывая, самолично отправился целым вооруженным походом в Нитрию. С ним были и епископы, и полицейские чины, служки и толпа уличных бродяг-громил. В самой Нитрии с ними соединилось большинство монахов-антропоморфистов… Но Диоскор, как подобает скромному епископу, встретил своего патриарха-папу с честью. Окружавшие Диоскора монахи несли в руках пальмовые ветви. Но паче меры взвинченный Феофил решил, что это стратегический обман, что надо начать превентивный бой. Раздалась команда, крики, над головами замелькали дубины. Диоскор и его монахи были обращены в бегство. Диоскор вбежал в церковь и сел на архиерейскую кафедру, но рабы Феофила схватили его за руки. Феофил скомандовал конец боя и тут же открыл епископский собор, на котором было осуждено все учение Диоскора… Кельи “братьев долгих” были разгромлены и сожжены вместе с книгами» .
Собор вынес решение, запрещавшее чтение сочинений Оригена. Этот акт вызвал одобрение со стороны Римского папы Анастасия, который в 398 году сменил Сириция, и святого Епифания Кипрского, в ту пору уже приближавшегося к столетнему возрасту. Он отозвался на Александрийский собор так: «Наконец-то Амалик истреблен до конца! На горе Рефидим воздвигнуто знамя креста. На алтаре Александрийской Церкви слуга Божий Феофил воздвиг знамя против Оригена» .
«Долгих братьев» Феофил запретил принимать в какой бы то ни было монастырь Египта. До 300 нитрийских монахов, на которых пало подозрение в приверженности учению Оригена, бежали в Палестину под защиту Иерусалимского архиепископа Иоанна, преемника святого Кирилла, который не разделял предубеждений Епифания Кипрского и Феофила против Оригена. Среди них был и один из четырех «долгих братьев», Диоскор, а трое других отправились в столицу с жалобой на учиненный погром и свое изгнание.
Предстоятель Константинопольской Церкви принял беженцев, выслушал их жалобы и нашел их основательными, но, соблюдая каноническую дисциплину, не допустил их до служения, пока они не будут оправданы в судебном порядке. Святой Иоанн обратился с письмом к осудившему их архиепископу Александрии, запросив у него объяснение по делу братьев. Феофил не стал отвечать Иоанну, но направил в Константинополь группу монахов-антиоригенистов. Посланцы Феофила, где только могли, публично и шумно обвиняли архиепископа столицы в том, что он взял под свое покровительство еретиков. В этой ситуации святитель Иоанн посоветовал «долгим братьям» апеллировать к императорскому суду - они так и сделали, после чего Иоанн еще раз писал Феофилу, утверждая, что церковно-судебное разбирательство дела «долгих братьев» стало неизбежным. В своем ответе Иоанну Феофил отвергал его право на вмешательство в дела Александрийской Церкви.
Императорский суд, рассмотрев жалобу «долгих братьев», оправдал их и одновременно осудил присланных Феофилом в столицу монахов за бесчинное поведение. По приговору суда одни из них были заточены в тюрьмы, другие отправлены на каторжные работы в каменоломни.
Для вынесения окончательного решения по делу в Константинополь вызван был Феофил. Отлагая отъезд, он через своих клевретов спешно искал сторонников за пределами Египта. Ему удалось вовлечь в интригу давнего соперника Иоанна Севериана Кавальского, а также Макария Магнезийского (который отказался признать юрисдикцию поставленного святым Иоанном митрополита Эфесского Ираклида после низложения его предшественника Антония), Квирина Халкидонского, столетнего старца Акакия Веррийского (человека ушедшей эпохи, в прошлом упорного арианина и одного из самых влиятельных «омиев», принявшего учение о единосущии, вероятно, по конъюнктурным соображениям) и - что было особенно ценно - митрополита Ираклийского Павла: дело в том, что Ираклия была главным городом провинции, на территории которой находился Константинополь, и до II Вселенского собора кафедра Византия-Константинополя состояла в юрисдикции митрополита Ираклии. Поскольку вопрос о границах юрисдикции епископа Нового Рима еще не был решен положительно, можно было настаивать на том, что у Ираклийского митрополита остаются известные права относительно Церкви столицы - и в позднейшие века привилегия возглавлять хиротонию епископа, поставляемого на Константинопольскую кафедру, принадлежала Ираклийскому митрополиту.
На просьбу Феофила оказать ему поддержку в его отчаянной борьбе с оригенистской ересью с радостью откликнулся святой Епифаний Кипрский. Это был подвижник и молитвенник высокой аскетической жизни, но при этом он отличался властным, крутым характером и исключительной прямолинейностью, чуждой всякого лукавства. У него, по характерному замечанию протоиерея Георгия Флоровского, «был особый вкус и ревность к обличению ересей» . Его главный труд «Панарион» («Противоядие») посвящен описанию и обличению ересей. Поскольку он считал, что изначальная вера праотцев совпадала с христианским вероучением, то первые ереси он возводил ко временам допотопным, включая в их число варварство, скифство, эллинизм и иудейство. Всех ересей он насчитывал 80 - не больше и не меньше, опираясь в этой калькуляции на слова «Песни песней»: «Есть у меня шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа» (Песн. 6: 8). Одной из самых злых ересей Епифаний считал оригенизм. Феофил воспользовался простодушием Епифания и привлек его на свою сторону в борьбе со святым Иоанном Златоустом, заставив его поверить в приверженность Иоанна учению Оригена.
Убежденный в оригенизме Иоанна, Епифаний по прибытии в Константинополь не принял приглашения архиепископа столицы остановиться у него в резиденции. Гостя сразу окружили недруги Златоуста, и он пошел на такой канонически недопустимый шаг, как рукоположение в диакона без санкции со стороны правящего епископа. Епифаний служил в церквях столицы без приглашения правящего архиерея, но, когда он попытался войти для совершения литургии в кафедральный храм 12 апостолов, архидиакон Серапион преградил ему вход в храм, сказав: «Как это так епископ Епифаний вторгается в чужой храм без законного разрешения епархиального начальника?» Епифаний, по замечанию А.В. Карташева, «был неистовый, но честный человек. Он внял объяснениям Серапиона» и решил вернуться домой. Сократ Схоластик писал: «Некоторые говорят, будто перед самым отплытием он так сказал Иоанну: “Умрешь епископом”, - на что Иоанн отвечал: “Надеюсь, что ты не достигнешь отечества”. Не могу утверждать, правду ли говорили те, от которых я слышал это, но предсказания сбылись над обоими» : на обратном пути на Кипр святой Епифаний скончался в возрасте 96 лет.
В сложившейся критической обстановке святитель не стал приспосабливаться к ситуации, не пытался склонить на свою сторону императора и его супругу, окружавших их влиятельных сановников, но смелыми нелицеприятными обличениями наживал себе новых врагов. Придворная дама Евграфия была обижена брошенным ей укором святителя: зачем она, вдова, рядится в роскошные одежды, красится и завивает кудри. С этих пор она стала ненавистницей строптивого обличителя, не желающего знать приличий, и стала энергично помогать Феофилу в его интригах.
После этого выпада Феофилу сообщили, что теперь он может спокойно выехать в Константинополь, где его ожидает благосклонное отношение императора Аркадия и Евдоксии. Феофил прибыл в столицу в сопровождении 28 епископов Египта, на преданность которых он мог положиться. Вместо того чтобы предстать перед императорским судом, на который его вызвали, Феофил открыл соборный суд над святым Иоанном. Формально, правда, на соборе председательствовал не он - на эту роль был выдвинут митрополит Ираклийский Павел, что придавало делу видимость большей каноничности, поскольку, как уже сказано, Константинополь в известном смысле входил в состав Ираклийской митрополии, но настоящим режиссером происходящего был все-таки сам Феофил. Местом проведения соборного суда была выбрана вилла «Под дубом», находившаяся на территории епископии противника Иоанна Квирина Халкидонского. В ответ на вызов на соборный суд святой Иоанн заявил об отводе четырех своих личных врагов: Севериана Кавальского, Акакия Веррийского, Квирина Халкидонского и Антиоха Птолемаидского. В этом требовании ему было отказано, и тогда Иоанн решил игнорировать этот суд. Его поддержали 40 епископов Фракии, Азии и Понта, отказавшихся явиться на собор. Таким образом, в судилище участвовало всего 36 епископов, из которых 29 занимали кафедры в Египетском диоцезе.
Собор «Под дубом», названный так по месту его проведения, открылся в сентябре 403 года. На нем прозвучали разные обвинения в адрес святого Иоанна, даже и такие курьезные, как вкушение на горнем месте после совершения литургии. Разумеется, в дело пошли обвинения во вмешательстве в дела Эфесской Церкви, в приверженности учению Оригена, но главным обвинением стала сама неявка на собор. Святой Иоанн был приговорен к лишению сана. Мало того, в соборный приговор было включено и грозное политическое обвинение в laese majestatis (оскорблении величества), заключавшемся в публичном, с церковного амвона, оскорблении августы; такой вердикт давал карт-бланш императорскому суду для вынесения смертного приговора - так далеко простиралась мстительность Феофила.
Но сама Евдоксия отшатнулась от суровости соборного приговора своему обидчику. Император Аркадий приговорил Иоанна к ссылке, и святителя втайне от почитавшего его народа увезли в Никомидию, но предотвратить народные волнения все равно не удалось: имея многих врагов среди сильных мира сего, святитель пользовался любовью простого народа. Лица, сопровождавшие прибывшего в Константинополь Феофила, подверглись нападениям со стороны жителей столицы, оскорбленных низложением и ссылкой своего предстоятеля и заступника. Собиравшиеся толпы горожан выкрикивали грозные призывы: «Утопить Феофила в Босфоре».В ночь, последовавшую за вынесением приговора, случилось землетрясение, в котором и почитатели святителя, и многие из его недругов увидели проявление гнева Божия на неправедный приговор. В довершение зол несчастье обрушилось на беременную в ту пору августу - у нее произошел выкидыш. Этого было довольно, чтобы она устрашилась дальнейших последствий неправедного суда, и по ее пожеланию святой Иоанн был возвращен в столицу. Евдоксия направила ему собственноручное письмо, в котором приглашала его вернуться на свою кафедру.
Святой изгнанник вначале не хотел возвращаться, настаивая на повторном соборном рассмотрении его дела, но император проигнорировал это требование, возможно считая прежний собор лишенным какого бы то ни было канонического значения. В конце концов святитель все же решил вернуться. Толпы ликующих христиан встречали его на пристани на берегу Босфора. Святой Иоанн вновь стал совершать богослужения в столичных церквях, вновь в них зазвучал его проповеднический голос, обличавший людские пороки и, как и прежде, особенно болезненно задевавший сильных мира сего, так что у его врагов не было причин слагать оружие - примирения не состоялось. Феофил продолжил интриговать.
А через несколько недель после возвращения Иоанна Златоуста на свою кафедру разгорелся новый конфликт между ним и августой. На этот раз причиной послужило водружение вблизи Святой Софии серебряной статуи Евдоксии. По этому случаю префект Константинополя устроил возле кафедрального собора шумные игры, пантомимы и ристалища. Святитель отреагировал на это жесткой критикой языческих обрядов, устроенных префектом, но Евдоксии донесли, что острие обличений направлено было против нее. В день памяти об усекновении главы Предтечи и Крестителя Иоанна Златоуст произнес проповедь, которая начиналась так: «Опять Иродиада беснуется, опять неистовствует, опять пляшет, опять требует у Ирода главы Иоанна Крестителя! Опять Иезавель хочет захватить виноградник Навуфея и изгнать святого Илию в горы… Что же возвестило нам Евангелие? Оно возвестило о том, как Ирод, схватив Иоанна, заключил его под стражу. По какому поводу? Иродиады ради, жены Филиппа, брата своего (Мф. 14: 3). Кто не обвинит Ирода, уступившего безумным женщинам, в слабости? Но, с другой стороны, как изобразить, как описать необузданную злобу этих женщин? Кажется, нет на свете зверя беспощаднее злой жены» .
Евдоксия поверила доносчикам, утверждавшим, что в этой проповеди содержатся прямые намеки на отношения между столичным епископом и императорской четой. Подчиняясь требованию супруги, Аркадий приказал не впускать Иоанна в храм. В городе опять начались волнения. На Пасху 404 года оглашенные, которые в этот день должны были принять крещение, по традиции собрались в константинопольских термах, а там раздались гневные речи в поддержку гонимого святителя, с обличениями императора и императрицы. Бунт был подавлен с пролитием крови. По свидетельству участников происшедшего, вода, предназначенная для крещения, окрасилась в красный цвет .
Евдоксия стала настаивать на повторном осуждении Иоанна. Слабовольный Аркадий подчинился требованию жены. В марте 404 года был созван новый собор по делу Златоуста. На этом повторном соборном суде святой Иоанн присутствовал. Феофил не участвовал в нем, но прибывшие из Египта епископы действовали по его наставлениям. На этот раз против святителя было выдвинуто обвинение в том, что он без пересмотра своего дела приступил к совершению богослужений и к делам церковного управления. Эти его действия подводили под 4-е и 12-е правила Антиохийского собора. Святой Иоанн в свое оправдание, во-первых, заявил, что он не признал правомочности собора «Под дубом», а значит, не считал себя низложенным законной церковной властью; а во-вторых, поставил под вопрос авторитет Антиохийского собора, издавшего эти правила, потому что в этом соборе участвовали ариане и он созван был для осуждения святого Афанасия.
Собор, однако, медлил с вынесением приговора, настаивая на том, чтобы император своей властью, на основании ранее вынесенного по делу Иоанна постановления, отправил Иоанна в ссылку. Святитель продолжал совершать богослужения в Святой Софии, но 24 июня он был по распоряжению императора удален из столицы и отправлен в ссылку на Кавказ, в армянский городок Кукуз. Перед отбытием святителю разрешили попрощаться с близкими ему людьми. Святитель призывал их и всех верных ему клириков и мирян подчиниться епископу, который будет поставлен вместо него, просил только не ставить подписи под какими бы то ни было документами с его осуждением. Он поступил так потому, что между ним и его противниками не было разделения в вере: ни он, ни Феофил не были отступниками от Православия, а пострадал он от человеческой несправедливости, и он не хотел, чтобы его неправедное осуждение послужило причиной раскола.
Христианское население Кукуза и окрестных мест с уважением относилось к сосланному святителю. Не особенно донимали его и местные власти, под чьим надзором он состоял - во всяком случае, ему не препятствовали вести переписку. В письмах, которые он направлял епископам Азии, Европы и Африки, а также своим преданным друзьям в Константинополе, святитель находил для них слова утешения и поддержки, давал советы, исполненные евангельской мудрости.
Когда Златоуста вывезли из столицы, в ней разразился пожар, обративший в пепел храм Святой Софии. Сильным ветром его пламя было перенесено на расположенное поблизости здание сената. За ночь и храм, и сенатская курия сгорели. В огне пожара погибли многочисленные античные статуи, свезенные при святом Константине в новую столицу из разных городов империи и хранившиеся в курии. Власти обвинили в поджоге иоаннитов, как стали тогда называть верных последователей Иоанна Златоуста, протестовавших против неправедного приговора. Многие из них подверглись репрессиям, некоторые были казнены. Три с половиной месяца спустя, 6 октября 404 года, у Евдоксии снова случился выкидыш, и она умерла.
На столичную кафедру был поставлен брат предшественника Златоуста Нектария - 80-летний Арсакий, который скончался в следующем 405 году, и новым архиепископом Константинополя стал один из столичных пресвитеров, Аттик, из числа недругов святого Иоанна. Он приступил к чистке столичного духовенства. От служения целенаправленно отстранялись преданные Златоусту клирики. Параллельно низлагались епископы, сохранившие преданность гонимому святителю. Гонения в виде ссылки, конфискации имущества обрушились и на многих мирян. Иоаннитам, не признающим Аттика, запрещено было собираться на молитву в столице - свои богослужения они устраивали за городской стеной, - и многие из гонимых уехали на Запад, среди них были клирики и епископы.
Тем временем архиепископ Феофил в послании папе Иннокентию, который взошел на Римский престол в 401 году после кончины Анастасия, доложил о суде над Иоанном и о вынесенном ему приговоре. Только после этого послание в Рим со своей стороны направил и изгнанный Златоуст. С такими же по содержанию посланиями он обратился также к другим западным предстоятелям - митрополитам Миланскому и Аквилейскому. Папа затребовал от Феофила дополнительные документы по делу, включая протокол собора. Рассмотрев присланные материалы, Иннокентий пришел к заключению, что Иоанн был осужден несправедливо. К таким же выводам пришли и митрополиты Милана и Аквилеи. Папа направил Феофилу приглашение на собор, созываемый для рассмотрения дела Златоуста. Императора Гонория он просил договориться с Аркадием об участии в соборе, который он хотел созвать в Фессалониках, западных и восточных епископов.
Из Рима в Константинополь отправилась представительная делегация для ведения переговоров о созыве собора. В ее составе были и епископы, изгнанные из восточных диоцезов. По приказу Аркадия от посланников папы потребовали признания Аттика законным архиепископом Нового Рима. Они отказались это сделать, после чего западных отправили назад, а восточных арестовали и сослали в отдаленные места. Папа в ответ на учиненное насилие разорвал общение со всеми, кто признавал Аттика, и таким образом каноническое общение между Церквями Запада и Востока было прервано. Созванный папой в Риме по делу Иоанна Златоуста собор западных епископов признал осуждение Иоанна и самый собор, на котором это произошло, недействительными.
В сложившейся ситуации власти в Константинополе решили ужесточить режим содержания Златоуста. В Кукуз пришел приказ перевести святителя в расположенный на дальней границе империи Питиунт (Пицунда в современной Абхазии). Святитель в это время был прикован болезнью к постели. Несмотря на это, его в сопровождении конвоя повезли по тряским горным дорогам. Везли в дождь и жару, не давая отдыха. Когда прибыли в селение Команы, святитель окончательно занемог. Его перенесли в ближайшую церковь мученика Василиска, и, причастившись в ней святых таин, угодник Божий со словами «Слава Богу за все!» отошел ко Господу. Кончина святителя Иоанна последовала 14 сентября 407 года. В Команах его и погребли, и только в 438 году при святом архиепископе Константинопольском Прокле его мощи был перенесены в столицу.
В 408 году умер император Аркадий. В правление Анфимия, бывшего регентом при малолетнем Феодосии, репрессивные меры против иоаннитов были смягчены, их уже не ссылали и их имущество не конфисковывали, но раскол продолжался. Иоаннитам, в общении с которыми был папа и весь Запад, по-прежнему не разрешалось совершать богослужения в Константинополе, и они собирались на молитву в загородных церквях; эти церкви были переполнены молящимися, в то время как городские храмы стояли полупустыми. Подобное положение дел беспокоило правительство, но настоящие перемены в его религиозной политике наступили лишь тогда, когда в 414 году дела государственного правления взяла в свои руки достигшая совершеннолетия старшая сестра императора святая Пульхерия, которая стремилась к преодолению раскола и восстановлению общения с Римской Церковью.
Первый шаг к примирению был сделан в Антиохии. Когда святой Иоанн был осужден, Антиохийскую Церковь возглавлял престарелый Флавиан, и в деле Златоуста он стоял на стороне своего земляка, как и весь почти епископат, клир и народ Сирийского диоцеза. Но уже 26 сентября 404 года Флавиан скончался. Под давлением правительства на Антиохийскую кафедру был поставлен местный пресвитер Порфирий, один из немногих в этом городе противников Златоуста, и он взял курс на подавление оппозиции. В его поддержку был издан императорский указ не впускать в храмы тех, кто отвергает молитвенное общение с Аттиком, Феофилом и Порфирием. В результате Антиохийскую Церковь сотрясал раскол, продолжавшийся целое десятилетие, пока в 414 году не умер Порфирий. На его место был поставлен Александр, который восстановил в диптихе имя святого Иоанна. Клирики-иоанниты, а также двое епископов - Елпидий и Пап, устраненные от служения за преданность Златоусту, были воссоединены в сущем сане. О состоявшемся примирении Александр сообщил папе Иннокентию, и общение Рима с Антиохией, разорванное при Порфирии из-за дела святого Иоанна Златоуста, было восстановлено. Затем Александр отправился в Константинополь и там настаивал на внесении имени Иоанна в столичный диптих, но Аттик противился этой инициативе. Благодаря своей примирительной политике Александр добился воссоединения с малочисленной общиной павлиниан, которую после смерти самого Павлина возглавлял Евагрий, скончавшийся в 392 году и оставивший эту общину уже без предстоятеля. Правда, после кончины архиепископа Александра, последовавшей в 419 году, на Антиохийскую кафедру был поставлен противник Златоуста Феодот, который снова вычеркнул имя Иоанна из диптиха, но этот его выпад вызвал столь сильное возмущение в народе, что Феодот вынужден был подчиниться воле христианского народа, и имя угодника Божия было снова включено в антиохийский диптих и уже навсегда. В 417 году по указанию Пульхерии Аттик внес имя святого Иоанна в диптих Константинопольской Церкви - раскол в столице был преодолен, что открыло путь к восстановлению канонического общения между Константинополем и Римом.Дольше всех церковной реабилитации святого Иоанна противилась, естественно, Александрия. Пока был жив Феофил, этого произойти никак не могло. Враждебное к памяти Златоуста упорство Феофила вызывало несогласие со стороны многих христиан Египта, в том числе и пользовавшихся широкой известностью. Так, преподобный Исидор Пелусиот писал тогда: «Египет всегда был врагом Моисея, приверженцем фараона. Теперь против святого учителя выдвинул этого Феофила, человека жадного до драгоценных камней и золота. К нему примкнули… четыре отступника, как и он: Акакий, Севир, Антиох и Квирин. И они его уничтожили» . Сторонники Феофила шельмовали его обличителей как оригенистов.
В 412 году Феофил умер. Несмотря на его невысокие моральные качества, имя почившего архиепископа было, естественно, внесено в Александрийский диптих, а впоследствии в Александрийской Церкви он даже некоторое время почитался как святой. В канонический корпус Вселенской Православной Церкви вошли его 14 правил. После смерти Феофила на Александрийскую кафедру был поставлен его племянник святой Кирилл, который унаследовал от дяди властный характер, но был человеком более гибким, более совестливым, а кроме того, обладал гораздо лучшим богословским образованием. Но и он на первых порах противился реабилитации Златоуста, вероятно искренне убежденный в справедливости его осуждения. Когда из Константинополя правительством и архиепископом Аттиком ему было предложено внести в Александрийский диптих имя Златоуста, он отреагировал на это с вызывающей резкостью: «Зачислить низложенного Иоанна в епископы - это все равно что Иуду поместить среди апостолов». Он «говорил, что его дядя Феофил был судьей на соборе, и он, Кирилл, хорошо знает дело. Есть даже предположение, что и сам Кирилл в окружении дяди Феофила был на соборе “Под дубом”» . Но до конца отстаивать безнадежное и неправое дело Кирилл не стал и в 419 году уступил, распорядившись внести в Александрийский диптих имя оболганного угодника Божия, к которому он, по крайней мере прежде, испытывал наследственную неприязнь.
Предубежденная молва эпохи гуманизма и позднейших веков возлагает на святого Кирилла вину за гибель знаменитой Ипатии - математика и философа, не принявшей христианского учения, усматривая в ней жертву его фанатизма. Но вот как это произошло на самом деле. Об обстоятельствах гибели Ипатии рассказано в «Церковной истории» Сократа Схоластика, относившегося к ней, несмотря на ее приверженность язычеству, вполне сочувственно: «В Александрии была одна женщина, по имени Ипатия, дочь философа Феона. Она приобрела такую ученость, что превзошла современных себе философов, была преемницей платонической школы… и желающим преподавала все философские науки… По своему образованию имея достойную уважения самоуверенность, она со скромностью представала даже пред лицом правителей, да и в том не поставляла никакого стыда, что являлась среди мужчин, ибо за необыкновенную ее скромность все уважали ее и дивились ей. Против этой-то женщины вооружилась тогда зависть. Так как она часто беседовала с Орестом (префектом Александрии. - прот. В.Ц. ), то ее обращение с ним подало повод к клевете, будто бы она не дозволяла Оресту войти в дружбу с Кириллом. Посему люди с горячими голосами под начальством некоего Петра однажды сговорились и подстерегли эту женщину. Когда она возвращалась откуда-то домой, они стащили ее с носилок и привлекли к церкви, называемой Кесарион, потом, обнажив ее, умертвили черепками, а тело снесли на место, называемое Кинарон, и там сожгли. Это причинило немало скорби и Кириллу, и Александрийской Церкви, ибо убийства, распри и все тому подобное совершенно чуждо мыслящим по духу Христову. Упомянутое событие произошло в четвертый год епископства Кирилла… в месяце марте, во время поста» .
В дело святого Иоанна Златоуста, сфабрикованное его недругами, был вовлечен один из выдающихся церковных деятелей эпохи - блаженный Иероним, биография которого связывает его и с Западом, и с Востоком империи. Он родился в далматинском городе Стридоне около 347 года в латиноязычной семье и учиться уехал в Рим. Там он, подобно другим студентам, и не только язычникам, вел рассеянную жизнь, так что впоследствии, после того как всем сердцем принял Евангелие и крестился, горько каялся в грехах юности, и эти его покаянные чувства побудили его к аскезе и монашеству. Вместе со своим другом Руфином он перебрался из Рима на его родину в Аквилею, где составился кружок ревностных христиан, хорошо образованных и аскетически настроенных. Из Аквилеи Иероним вместе с Руфином и еще несколькими друзьями отправился на Восток в прославленные уже тогда на христианском Западе монашеские обители Сирии и Египта.
Добравшись до Антиохии, он слег больным и вынужден был на некоторое время задержаться в этом мегаполисе, где находилась прославленная богословская школа. В Антиохии Иероним усердно занялся изучением греческого языка, чтобы углубиться в постижение Библии. В эту пору его руководителем в библейских штудиях на время стал Аполлинарий Лаодикийский, но Иеронима не увлекла его еретическая христология - он вообще не склонен был к спекулятивным умозрительным построениям, не имел интереса к философии и не был поэтому богословом-догматистом - Иероним ценил экзегетическую, или лучше сказать, филологическую технику и текстологическую критику Аполлинария. При знакомстве с сирийскими монахами блаженный Иероним был удивлен их горячей вовлеченностью в богословские споры, которую он находил неподобающей для отрекшихся от мира аскетов: «Стыдно сказать, из глубины пещер мы изрекаем осуждение вселенной. Валяясь во вретище и пепле, мы выносим приговоры епископам. Что делает дух власти под туникой кающегося! Вериги, рубище, длинные волосы - знаки не царской власти, а сокрушения и смирения» .
В Антиохии, где параллельно существовали две православных общины, не имевших общения между собою: большая мелетианская и малочисленная павлинианская, православие и каноничность которой признавали в Александрии и Риме, - Иероним, как латинянин по происхождению, примкнул к Павлину, и тот рукоположил его в пресвитера. Перед посвящением он предупредил Павлина, что не склонен к пастырской деятельности, и все-таки тот пошел на этот шаг, так что Иероним стал, по характеристике А.В. Карташева, «странствующим и кабинетным пресвитером» .
После того как при Феодосии Великом совершилось торжество Православия и посрамление арианства во всех его разновидностях, Иероним приехал в Константинополь, общался там с великими каппадокийцами Григорием Богословом и Григорием Нисским и от них усвоил интерес к сочинениям Оригена (не к сомнительной догматической стороне его наследия, но к его экзегезе) и усердно принялся за перевод Оригена на латинский язык. Затем он перевел «Хронику» Евсевия Кесарийского. В переводческом труде Иероним нашел свое призвание: обладая тонкой филологической интуицией и замечательным даром слова, он с увлечением всю жизнь занимался переводами.
В 382 году, после окончания II Вселенского собора, Иероним уехал в Рим, и там папа Дамас, осведомленный о его переводческих опытах, поручил ему отредактировать латинский перевод Библии, который тогда был в употреблении на латинском Западе, названный впоследствии «древним» переводом - Vetus Latina. После кончины своего покровителя Дамаса Иероним вернулся на Восток, вначале в Антиохию, а затем в Александрию. В Сирии, Палестине и Египте в конце IV века появились своего рода колонии аскетически настроенных выходцев с Запада, которые, за неимением монашеских общин у себя на родине, стремились пробрести опыт подвижнического жития в восточных монастырях. В Египте Иероним встретил своего давнего друга Руфина, а также обладавшую ранее колоссальным богатством римскую матрону преподобную Меланию, которая, истратив свое имение на церковные нужды и дела благотворительности, обосновалась на Востоке. В течение многих лет Иероним состоял с ней в переписке, которая частично сохранилась, представляя собой исключительно ценный материал по истории этой бурной эпохи.
В Александрии в 386 году Иероним познакомился со знаменитым Дидимом, прозванным Слепцом, потому что он потерял зрение в детстве. Он был великолепным знатоком Писания, которое изучал, слушая чтение своих помощников; в молодости, при святом Афанасии, он возглавлял Александрийскую богословскую школу. В своих богословских воззрениях Дидим был последователем Оригена, но не разделял его субординационистских ошибок, следуя в триадологии за Афанасием, хотя, видимо, не без основания был осужден V Вселенским собором за приверженность учению о предсуществовании душ. Подобно Оригену, но также и святому Григорию Нисскому, Дидим Слепец учил об апокатастасисе. Богословие Дидим считал не отделимым от аскетической и молитвенной практики, и поэтому у него были ученики и почитатели в монашеской среде; к их числу принадлежали Евагрий Понтийский и Палладий, одним из его последователей стал друг Иеронима Руфин Аквилейский; но, имея репутацию оригениста, Дидим сталкивался с недоверием к себе со стороны большинства монашествующих Фиваиды и Нитрийской пустыни - многие из его противников по невежеству придерживались антропоморфистских представлений. Это недоверие распространялось и на учеников Дидима, в том числе и на тех латинян, которые, поселившись на Востоке, чрезмерно увлекались Оригеном, как казалось ревнителям.
Блаженный Иероним и Руфин Аквилейский переехали из Египта в Палестину. Иероним поселился в Вифлееме, а Руфин - в Иерусалиме. Вокруг них сложились маленькие монашеские общины латиноязычных эмигрантов. Хотя оба они находились в юрисдикции Павлина, но преемник святого Кирилла Иерусалимского святой архиепископ Иоанн, имея каноническое общение с Флавианом Антиохийским, относился к ним вполне дружелюбно.
По убеждению воинствующего антиоригениста Епифания Кипрского, Иоанн Иерусалимский и сам был заражен ересью оригенизма и потому покровительствовал еретикам. Рассадниками ереси он считал латинские монастыри на Елеоне в Вифлееме. Оставаться равнодушным к подозреваемой им опасности Епифаний не мог; он направил в Палестину своего помощника Атервия, который сам был из числа латинян, вероятно выходцем из Испании, с миссионерской целью - для обращения оригенистов в православие. Красноречие и пафос проповедей Атервия, с налетом неистовства и фанатизма, оставили равнодушным Руфина, но произвели потрясающее впечатление на Иеронима, человека порывистого, увлекающегося и крайне резкого и прямолинейного в своих оценках. Затем в Палестину приехал сам святой Епифаний для развенчания ереси, и все это еще более укрепило Иеронима в решимости кардинально пересмотреть свои богословские воззрения. Он ужаснулся пагубности своих недавних еще действительных и мнимых заблуждений и с этих пор стал одним из самых пылких обличителей Оригена и его последователей. Между тем самым опасным оригенистом Епифаний в посланиях, адресованных в обители Святой Земли, называл друга Иеронима Руфина, и Иероним, со всей серьезностью относясь к свом новым убеждениям, порвал с Руфином и вовлекся в борьбу против оригенистов, в том числе мнимых, обрушившись с бесцеремонной и злой критикой на Иоанна Иерусалимского, так что тот даже пытался, но безуспешно удалить неистового ревнителя из Вифлеема и Палестины.
Когда папа Сириций получил сведения о разыгравшихся на Востоке спорах о богословском наследии Оригена, он занял, вопреки надежде Епифания, взвешенную позицию и, не поддержав его в стремлении до конца выкорчевать «оригенистскую заразу», склонился к поддержке Иоанна Иерусалимского. Узнав о позиции папы, Иероним умерил тон своих обличений и, оставшись в Вифлееме, углубился в дело библейского перевода. На Востоке он не только в совершенстве овладел греческим, но и основательно изучил еврейский и арамейский языки, так что, выполняя перевод, был во всеоружии филологических знаний. Отстранившись от полемики вокруг богословия Оригена, экзегетические труды которого ему были весьма полезны в его переводческом труде, он решил помириться со своим старым другом Руфином. Примирение состоялось в Иерусалиме, у Гроба Господня, в 397 году.
После этого Руфин вернулся в Рим. И там он перевел на латинский язык «Апологию Оригена», написанную Евсевием Памфилом, а также важнейший догматический труд александрийского богослова «О началах». При переводе Руфин допустил вольности, которые можно было при строгом отношении к делу расценить как подлог: он прибег к корректуре оригеновского текста, удаляя из него в переводе очевидно неприемлемые идеи, устраняя из триадологии переводимого автора элементы субординационизма. Но эта правка все же и не была столь смелой, чтобы удалить из оригеновского текста все вообще места, которые расходились с православным богословием никейской эпохи, так что читатели книги «De principiis» - так она названа в латинском переводе - нашли повод обвинить Руфина в ереси. Дело было доведено до папы. Сириций решил не придавать важного значения обвинениям и отправил Руфина в родную ему Аквилею. Но Руфин вынужден был объясняться и оправдываться и в своих оправданиях прибег к опрометчивому и небезупречному приему: ввиду прочного на Западе авторитета своего старого друга Иеронима, он стал ссылаться на одобрительные высказывания его об Оригене, не уточняя, что они относились к давнему времени, так что почитатели Иеронима нашли повод вступиться за его репутацию и защитить его от «клеветы» Руфина. Ситуация особенно накалилась потому, что преемник скончавшегося в 398 году Сириция Анастасий не без влияния резко изменившего тогда отношение к Оригену Феофила Александрийского ополчился на действительных и мнимых оригенистов.
В письмах из Рима блаженному Иерониму рассказали об отношении к Оригену нового папы и заодно о том, что Руфин, оправдываясь, ссылается на авторитет своего старого друга, выдавая его за единомышленника. Тогда Иероним взялся за новый и корректный перевод сочинений Оригена. Ознакомившись с этим переводом, получив заключение о трудах Оригена богословски образованного епископа Кремонского Евсевия, которому они высланы были на рецензию, папа пришел к окончательному заключению о том, что в них содержатся еретические мысли, и добился от императора Гонория издания указа об их запрете и истреблении.
Опасность прещений нависла над снискавшим репутацию оригениста Руфином, но в его защиту выступили тогда такие влиятельные лица, как святители Иоанн Иерусалимский и Павлин Ноланский, архиепископ Аквилейский Хроматий, преподобная Мелания. Руфин направил папе личное исповедание веры и заодно написал собственную «Апологию» в двух томах. И в ней он вновь ссылался на прежние хвалебные высказывания Иеронима об Оригене. Угроза отлучения миновала, но Иероним был в страшном гневе и написал крайне раздраженное письмо Руфину. Тот ответил, не извиняясь, а скорее принимая вызов. Эпистолярная полемика между Иеронимом и Руфином переполнена личными выпадами, а со стороны красноречивого и в гневе Иеронима - виртуозной брани. Эту вражду пытались погасить Хроматий Аквилейский, Мелания и новая яркая звезда на богословском небосклоне Запада епископ Иппонский Августин, но все было тщетно: Иероним не примирился с Руфином. Узнав о том, что Руфин умер на Сицилии, Иероним записал в своем дневнике: «Наконец-то скорпион залег в земле Тринакрийской, стоглавая гидра перестала шипеть» . Возненавидев когда-то чтимую им Меланию за ее поддержку Руфина, он писал, что уже самое ее имя - melania в переводе с греческого значит «черная» - свидетельствует «о черноте ее души» .
В разгар дела святого Иоанна Златоуста Иероним, поверивший Феофилу, обличавшему святителя за мнимый оригенизм, и о нем высказывался в обескураживающе бранном тоне, клеймя его в одном из своих писем как «нечестивого, разбойника, святотатца, Иуду и сатану, которого достаточно наказать не может даже сам ад» . До известной степени извинением подобной разнузданности языка и пера может служить лишь искренняя убежденность в неправоте Златоуста и буйный темперамент Иеронима.
В 405 году в Палестине Иероним завершил главный труд своей жизни - перевод библейских книг на латинский язык, названный Vulgata - «народной Библией», заменивший в широком употреблении ранее выполненные и менее совершенные переводы и впоследствии канонизированный католической традицией. 15 лет спустя, в 420 году, он преставился в Вифлееме и был погребен в храме Рождества Христова. В VII столетии его мощи были перенесены из Вифлеема в Рим, в базилику Санта Мария Маджоре. Именуемый в Православной Церкви блаженным, Иероним почитается на Западе как один из самых великих святых Католической Церкви.
Рубеж IV и V столетий явился своего рода паузой между двумя эпохами противостояния ересям, потрясшим Вселенскую Церковь и побудившим в IV веке найти адекватную формулу тринитарного, а в следующее столетие - христологического догмата. Споры вокруг богословского наследия Оригена возбуждены были ложной тревогой чрезмерно впечатлительных и подозрительных ревнителей и использованы в конъюнктурных целях ловкими церковными деятелями как жупел для устрашения и разгрома своих противников. Ориген высказывал наряду с глубокими и верными идеями ряд мыслей, несовместимых с Богооткровенным учением, но он был лучшим знатоком и глубокомысленным интерпретатором Писаний. Без пользования его сочинениями не обходился ни один из бесспорно православных крупных богословов IV века, ни один из отцов Церкви этой эпохи, и они в разной мере заимствовали его здравые мысли, относясь при этом к нему с уважением, но не без осторожности и критики, так что громкий шум об опасной оригеновской ереси был поднят зря.
На рубеже столетий появилась, однако, новая ересь, едва замеченная на христианском Востоке, но потрясшая церковный Запад. Это было учение выходца из Британии Пелагия, поселившегося в Риме около 380 года. В своем толковании на Послание апостола Павла к римлянам он утверждал, что грехопадение Адама было только его личным грехом и действие этого греха не распространяется на потомков Адама, из которых каждый сохраняет способность отвергнуть зло и избрать путь самосовершенствования. Господь Иисус Христос спас человеческий род не столько Своею кровью, сколько примером добродетельного жития и праведной смерти, следовать которому может всякий ищущий спасения и святости. Господь помогает ему в этом, но в конечном счете все решает свободная воля человека, делающего осознанный выбор. По существу дела Пелагий отвергал догмат о первородном грехе. Доктрина Пелагия с ее безграничным антропологическим оптимизмом встретила самую последовательную критику со стороны епископа Иппонского Августина.
Августин Аврелий родился в провинции Нумидия в городе Тагасте (современный Алжир) в 354 году в семье язычника Патриция и христианки Моники. Перед смертью в 370 году отец блаженного Августина принял крещение. На перемену его убеждений повлияла его супруга. Благодаря матери Августин уже в детстве ознакомился с христианским вероучением, в ней он видел живой пример глубокой сердечной веры и деятельной любви к ближнему, но лишь в зрелые годы Августин стал убежденным христианином и принял крещение. Светлые воспоминания о матери содействовали его обращению, от которого его раньше удерживали, с одной стороны, греховные страсти, а с другой - не завершившиеся еще интеллектуальные поиски. С юности он имел потребность в выработке целостного стройного мировоззрения, при этом, имея критический склад ума, испытывал разные учения и религиозные системы, и увлекаясь ими, и подвергая их трезвому анализу. Августин изучал риторику в родном Тагасте, затем в Мадавре и, наконец, в африканской столице Карфагене. Завершив школьное образование, он сам преподавал риторику вначале в Карфагене, а позже, перебравшись в Италию, в Риме и Медиолане.Еще в студенческие годы он увлекся манихейским учением, которое в интеллектуальном отношении привлекало его строгой системностью доктрины, а в этическом - последовательным ригоризмом требований, предъявляемых к адептам, но, возможно, и своим льстящим самолюбию юноши эзотеризмом. Но и после принятия манихейства у Августина оставались сомнения относительно его истины, которые со временем нарастали. И когда один из видных наставников этой секты Фавст не сумел ответить на вопросы, с которыми к нему обратился Августин, он отошел от манихеев.
В Медиолане Августин слушал проповеди святителя Амвросия, находя их глубокими по содержанию. К христианскому учению, о котором он знал от своей матери-христианки, он стал относиться со все большим доверием. Он начал усердно читать Ветхозаветные и Новозаветные книги. Переворот в его душе произошел при чтении Послания апостола Павла к римлянам. Оно подвигло его на решение стать христианином, и в 387 году, на Пасху, Августин принял крещение в Медиоланском кафедральном соборе. Ему шел тогда 33-й год. После крещения он уехал на родину, в Африку, и в городке Иппоне основал и возглавил монашескую общину.
Вскоре потом, в 391 году, он был рукоположен в пресвитера, а в 396-м стал епископом и возглавил Иппонскую Церковь; из своей монашеской общины он устроил духовную школу, ставшую одним из главных очагов христианского просвещения в Африке. Епископу Иппонскому приходилось противостоять сохранявшему еще многочисленных приверженцев донатистскому расколу, а также секте своих прежних единоверцев манихеев. Он проводил многочисленные диспуты с религиозными оппонентами, и в них обнаружил незаурядный дар полемиста. В результате одного из таких диспутов, проведенного в 404 году, проповедник манихейства Феликс вынужден был признать несостоятельность этого учения и принял крещение.
При появлении доктрины Пелагия Августин выступил ее самым настойчивым и обстоятельным критиком. В противоположность Пелагию Августин исходил из представления о глубокой поврежденности человеческой природы вследствие грехопадения прародителей - первородного греха. Чрез зачатие и рождение семя греха, наследственно передающееся от Адама, сообщается всякому человеку, приходящему в этот мир, и предрасположение к греху стало своего рода второй природой падшего человека. В результате грехопадения первозданной четы не только человек, но и среда его обитания - космос - уклонились от первоначального замысла Божия о творении. Но деградация человеческой природы и всего тварного мира не носит, по Августину, необратимого характера. Из любви к Своему творению, к человеку Сын Божий нисшел в этот мир, принял на Себя человеческую плоть, стал Человеком, оставаясь Богом, чтобы на кресте искупить и спасти падшего Адама. Все мы являемся грешниками, справедливо заслуживающими вечной гибели, и, пользуясь только собственными силами, парализованными грехом, повредившим саму нашу волю, которая влечется ко злу, никто из людей, даже и праведники Ветхого Завета, не в состоянии спастись и войти в общение с Богом. Состояние падшего человека Августин сравнивал с положением человека, которого полумертвым бросили на дороге разбойники и который сам уже не способен снова взойти на вершины праведности, с которых прежде спустился. Исцелить его подавленную волю может лишь истинный добрый самарянин - Господь Иисус Христос. Его искупительная жертва сокрушила всевластие диавола над человеком. Спасение совершается действием благодати Божией, которая обильно излилась на род человеческий, когда Один из нас по Своей человеческой природе принял добровольную смерть, не имея в Себе и тени греха.
Понятие благодати имеет ключевое значение в сотериологии Августина. Благодатью Божией человек получает оправдание, но оправдание благодатью распространяется не на всех. По Своему всеведению Господь знал, что дарами Его благодати воспользуются не все, и только тех предопределил к вечному блаженству, кто способен уверовать во Христа и следовать за Ним. Августин с особым акцентом подчеркивал, что не от самого человека, а от Бога зависит его спасение, но человек, предопределенный ко спасению, в самой своей вере в спасающее действие благодати обретает свидетельство о дарованном ему спасении.
Усилиями Августина Пелагий и его последователь Целестин были осуждены на Карфагенских соборах 412 и 416 годов. В ходе полемики, возбужденной появлением пелагианской ереси, высказана была позиция, критическая по отношению к Пелагию, но отличающаяся и от августиновской. Она была сформулирована и обоснована марсельским монахом преподобным Иоанном Кассианом, который утверждал, что спасение человека совершается не одной только волей Божией, но синэргией Божественной благодати и человеческого произволения. Не разделяя оптимистического и «розового», если так можно выразиться, представления Пелагия о состоянии человеческой природы после грехопадения, Иоанн Кассиан не представлял падшего человека и в столь плачевном и бессильном положении, как Августин. Мысли Августина, при последовательном доведении их до абсурдных крайностей, много веков спустя вылились в доктрину Кальвина о божественном предопределении одних ко спасению, а других к вечной погибели - и тоже ради вящей славы Божией. На Августина, а не только на однобоко понятое Послание к римлянам опирался и Лютер в своем учении о спасительности одной только веры, без дел закона. Августин, а вслед за ним и Западная Церковь, отвергли мысли преподобного Иоанна Кассиана о синэргии как полупелагианские, но его учение принято было на Востоке, и оно лежит в основе православной антропологии и сотериологии.
Литературное наследие Августина, по его собственному подсчету, включает 97 сочинений, 224 письма и более 500 проповедей. Сохранились его труды, написанные до обращения: «Против академиков (скептиков)», «О жизни блаженной», «О порядке», - но большая часть написанного им относится ко времени, последовавшему за его крещением. Среди его христианских сочинений слова «О бессмертии души», «Об истинной религии», «О свободной воле (О свободе выбора)», «Против послания Мани, именуемого Основоположным», «Против Фавста», «О духе и букве», «О Троице».
К самым значительным его творениям принадлежат трактаты «О христианском учении», «О Книге Бытия дословно», «О природе и благодати»; две его книги оказали колоссальное влияние не только на богословскую мысль последующих веков, но и на формирование самой парадигмы западноевропейской культуры - это «Исповедь», написанная в 400 году, и колоссальное творение «О Граде Божием», над которым Августин трудился с 412 по 426 год.
Поводом к написанию книги «О Граде Божием» стало падение Рима, захваченного вестготами во главе с Аларихом. Язычники утверждали, что причиной падения стало отступничество римлян от веры отцов. Августин возражал им. Этот грандиозный труд явился первым опытом построения целостной концепции истории человечества. Земная история, по Августину, представляет собой чреду появлений и гибели государств, и настоящая причина переживаемых народных бедствий: войн, переворотов, падения царств, голода и болезней - коренится в человеческой греховности. Но над историей земных царств, пребывающих во власти сатаны, которому отдельные люди, народы и государства покоряются в силу своих грехов, возвышается иное царство - Град Божий, который покорствует воле Божией и который в известном смысле слова тождествен Церкви; этому Граду предстоит при кончине века влиться в вечный блаженный покой Небесного Царства. Начало земным греховным царствам положило падение ангелов и последовавшее за ним грехопадение прародителей. Противостояние града земного и Града Небесного составляет стержень мировой истории, которая имеет свое начало - в творении, свое центральное событие - Боговоплощение и свой эсхатологический конец.
«Исповедь» Августина посвящена реконструкции духовного становления автора, который из язычника стал христианином. Эта книга написана с предельной искренностью, в ней с удивительной глубиной, проницательностью и тонкостью представлена драма человеческой души, стремящейся к свету и истине, но бессильной вырваться из тенет страстей и заблуждений без всесильного действия на нее благодати, так что примером собственной жизни, примером личного опыта писатель иллюстрирует в «Исповеди» выношенные им антропологические и сотериологические идеи.
Августин преставился в своем кафедральном городе Иппоне во время его осады вандалами 28 августа 430 года. В Православной Церкви он, как и Иероним, признан блаженным, а католиками он почитается как великий святой и один из учителей Церкви.
В 417 году скончался папа Римский Иннокентий. Его преемником стал Зосима, грек по происхождению и родному языку, скончавшийся через год с малым после своего возведения на Римскую кафедру. За его кончиной последовало разделение в римском клире и пастве. Избрано было два папы: большинство субурбикарных епископов (названных так потому, что они занимали кафедры в пригородах Рима), а также представителей римских клириков и паствы проголосовало на избирательном соборе, состоявшемся в храме святого Марцелла, за Бонифация, но на параллельных выборах в кафедральном Латеранском соборе папой избран был ставленник префекта Симмаха, остававшегося язычником, его друг Евлалий. Благодаря настояниям Симмаха император Гонорий, имевший резиденцию в Равенне, своим эдиктом признал епископом Рима Евлалия. По приказу императора Бонифаций был удален из города и укрылся в базилике святого Павла, которая тогда находилась за городской чертой. В Риме начались волнения, и Гонорий изменил свою позицию. Он приказал обоим - Бонифацию и Евлалию - пребывать вне Рима, пока представители спорящих партий не явятся в Равенну, а затем в Сполето, где для разрешения конфликта должен быть созван собор. Бонифаций подчинился приказу императора, а Евлалий самовольно явился в Рим, чтобы совершить литургию в Латеранском соборе. Реакцией на это стало признание Гонорием законным папой Бонифация и удаление из Рима антипапы Евлалия.
Первосвятительское служение Бонифация продолжалось до его кончины в 422 году, после которой Римскую кафедру занял святой Целестин. В том же году умер предстоятель Антиохийской Церкви Феодот, и на вдовствующий престол был возведен архиепископ Иоанн. Иерусалимскую кафедру после кончины святого Иоанна, последовавшей в 417 году, в течение трех лет занимал Праилий, преемником которого стал святой Ювеналий. До своей смерти в 425 году Церковь Нового Рима возглавлял Аттик.
Благодаря сложившимся на короткое время дружественным отношениям между Римской империей и Ираном, когда им правил шах Йездигерд, положение персидских христиан изменилось в лучшую сторону. Они фактически обрели не только свободу вероисповедания, но и легальную возможность проповеди Евангелия. В 409 году христианским общинам даровано было право открыто совершать богослужение и восстанавливать ранее разрушенные храмы. В 410 году в восточной столице Ирана Селевкии был созван собор, на котором с титулом католикоса Селевкии и Ктесифона был избран предстоятель Персидской Церкви Авда, который признавал над собою юрисдикцию архиепископа Антиохии. Собор выразил совершенную лояльность монарху: «Мы все единодушно умоляем нашего милостивого Бога, чтобы Он продлил дни победоносного и знаменитого царя Йездигерда, царя царей, и чтобы его годы были продолжены на поколения поколений и на годы годов» .
По словам историка Феофана Исповедника, «персидский царь Исдигерд, следуя убеждениям Маруфы, епископа Месопотамского, и Авды, епископа царствующего града в Персии, вполне сделался благочестив. Он было хотел уже принять крещение из рук чудотворящего Маруфы, наказывая волхвов (магов) как обманщиков, но на двадцатом году скончался» . Этому сообщению вполне соответствует репутация Йездигерда, которую он снискал среди приверженцев зороастризма: «Персидская традиция, которая отражает умонастроение магов и знати, - пишет А.А. Васильев, - называет Йездигерда “отступником”, “безнравственным”… другом Рима и христиан и преследователем магов» .
После смерти Йездигерда в 420 году на престол шахиншахов вступил сын Йездигерда Бахрам, прозванный Гором, что значит «дикий осел». При нем начались кровавые гонения христиан. Повод для них дал католикос Авда одним своим неблагоразумным поступком. Как рассказывает Феофан Исповедник, «Авда, епископ столицы Персии… увлекаясь божественной ревностью и не по должному пользуясь ею, сжег храм огня. Узнав о сем, царь велел разрушить все христианские церкви в Персии, Авду же казнил разными муками. Это гонение продолжалось пять лет, пострадали бесчисленные мученики, ибо волхвы тщательно отыскивали христиан, укрывавшихся по городам и селам; некоторые сами объявляли о себе, чтобы молчанием не показать, что они отрекаются от Христа. Когда нещадно истребляли христиан, то очень многие скончались среди мучений, а другие бежали к римлянам» .
Преследование христиан послужило причиной войны между Римской империей и Ираном, которая закончилась для Рима в 422 году победой. Шах Бахрам в мирном договоре брал на себя обязательство не преследовать христиан. Прямые гонения действительно прекратились, но христиане оставались в Иране дискриминируемой общиной. Никогда уже они не пользовались в этой стране такой свободой, какая существовала для них в правление Йездигерда.
Прокрутите Вниз
1 && "cover" == "gallery"">
Место для будущего города Хабаровска было в июне 1854 года, за несколько лет до окончательного к России левого берега Амура. «Вот где будет город», - указал тогда с борта парохода «Аргунь» на прибрежную скалу Восточно-сибирский генерал-губернатор Николай Муравьёв. Но мало было выбрать подходящее место, город ещё предстояло построить на пустынном берегу посреди амурской тайги. Эта нелёгкая задача выпала на долю солдат и офицеров 13-го Сибирского линейного батальона. Об их непростой судьбе специально для DV расскажет историк Алексей Волынец
«13-й линейный…»
Так сложилось, что у многих народов есть предубеждение к числу 13, которое считается несчастливым и приносящим неудачи. Едва ли это суеверие имеет реальные основания, но в истории первых строителей Хабаровска «чёртова дюжина», действительно, соседствует с трагедией.
13-й батальон был создан в Иркутске в 1829 году в числе пятнадцати других «линейных батальонов». На языке военных Российской империи «линией» тогда называли государственную границу - по сути это были именно пограничные части, охранявшие на востоке Сибири самые отдалённые рубежи нашей страны. Казалось бы, солдатам этих батальонов не угрожали никакие беды, кроме обычных тягот жизни в глухих гарнизонах, отдалённых на тысячи вёрст от всех войн, гремевших в то время в Европе и Азии.
Но середина XIX столетия изменила размеренную жизнь «линейцев», как именовали в ту эпоху пограничников. Когда Восточно-сибирский генерал-губернатор Николай Муравьёв в Забайкалье на берегах реки Шилки стал первые пароходы и речные суда для Амура, именно солдатам 13-го батальона, чьи пуговицы на мундирах и шинелях украшала соответствующая цифра, пришлось немало потрудиться на подсобных работах. Как вспоминал весну 1855 года один из очевидцев: «Солдаты таскали громадные брёвна, распиливали их на доски, сбивали плоты и сооружали баржи. Солдатики копошились везде, как муравьи, и отовсюду раздавались то глухие постукивания топоров, то звонкий грохот кузнечных молотов, то пронзительный визг пил. А над всем этим хаосом суетливой работы носились звуки возбудительной песни: “Эй, дубинушка, ухнем! Эй, зелёная, сама пойдёт!..”»
Спустя год рядовые и офицеры 13-го батальона встречали новую весну уже не в Забайкалье, а на тысячи вёрст к востоку - в устье Амура. Им довелось проплыть всю великую реку до побережья Татарского пролива, где осенью минувшего 1855 года их товарищи, участники первых «сплавов», отразили атаку британского флота. Сам 13-й батальон так и не поучаствовал в боях - его встреча со смертью была впереди…
Весной 1856 года, когда закончилась война России против коалиции Англии и Франции, в дикой тайге возле устья Амура находилось около четырёх тысяч русских войск. Прокормить их в этой глуши стоило больших усилий и средств, поэтому командование решило немедленно вернуть большую часть солдат в Забайкалье, поближе к обжитым местам Сибири. Если ранее солдаты преодолели весь Амур, плывя вниз по течению, то теперь им требовалось проделать обратный путь вверх по реке. Для возвращавшихся от устья амурские волны становились не удобной речной дорогой, а тяжелейшим препятствием - почти три тысячи вёрст по извилистому руслу предстояло пройти против сильного течения, двигаясь между безлюдными таёжными берегами.
Первые отряды возвращавшихся двинулись в обратную дорогу в июне 1859 года. Самая же последняя группа из трёх рот 13-го и 14-го батальонов начала возвращение на исходе лета, двинувшись вверх по Амуру лишь 8 августа. Этой группе предстояло идти тысячи вёрст под началом командира 13-го батальона подполковника Облеухова.
32-летний Александр Никанорович Облеухов командовал своим батальоном второй год. Сын генерала, военную службу он начал гвардейцем в столичном Петербурге, но опыта реальных боёв не имел. Во время подготовки первого «сплава» по Амуру весной 1854 года подполковник Облеухов поразил штабное начальство стихами собственного сочинения, посвящёнными генерал-губернатору Муравьёву:
Порадовал ты нас приездом,
Но дал лишь на себя взглянуть
И уж сулишь нам грусть отъездом,
Собравшись в дальний, дивный путь.
Хоть нам и жаль с тобой расстаться,
Но ведь Амур тебя зовёт,
И мы должны тем утешаться,
Что там тебя бессмертье ждёт.
Гряди ж, герой, среди молений,
Теплящихся во всех сердцах;
Русь от тебя ждёт приношений,
Каких не сделал и Ермак!
Молниеносным соображеньям
Твоим ни в чём препятствий нет:
Ты нам назначен провиденьем,
Чтоб Старый с Новым сблизить свет.
Самому герою этих рифм, генералу Муравьёву, лесть Облеухова по вкусу не пришлась. Однако, в остальном экзальтированный поэт в подполковничьих эполетах казался всем примерным служакой - причиной трагедии он станет, лишь оказавшись в экстремальной ситуации, посреди Амурской тайги.
«Батальон ждал пробуждения командира…»
В низовьях Амура за организацию движения войск отвечал капитан 1-го ранга Пётр Казакевич. Опытный моряк, участвовавший во всех трёх «сплавах», он предупредил подполковника Облеухова о риске позднего возвращения - «запоздав почти на месяц, подъём по Амуру будет тяжёл». Казакевич советовал командиру 13-го батальона отложить возвращение до весны следующего 1857 года. Но Облеухов отказался - у него были личные поводы для спешки, а единственный раз проплыв вниз по Амуру, он не представлял всю сложность обратной дороги.
Главный руководитель русских сил на Амуре, генерал-губернатор Муравьёв, лично проведя два первых «сплава» 1854-55 годов, в третьем не участвовал, отбыв в столицу на коронацию нового императора. Очередной «сплав» 1856 года и подготовка к выводу войск из устья Амура велись без него. Поэтому подполковник Облеухов имел возможность проигнорировать мнение опытного Казакевича, ссылаясь на «решительное приказание вернуться», якобы полученное от начальства в Забайкалье.
Реальная причина для спешки была совсем иной. Как вспоминал позднее один из сослуживцев подполковника: «Облеухов в это время был женихом красивой и очень богатой девушки Александры Курбатовой, свадьба его была отложена до возвращения; кроме того, он не хотел упустить случая отличиться более других, проплыв на устье Амура и возвратясь в Шилку в одну навигацию…»
Командир 13-го батальона спешил вернуться в Забайкалье к невесте - дочери самого богатого купца в забайкальском городе Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ). Поэтому все предупреждения о риске оказались бесполезны, и 8 августа 1856 года 374 человека, включая самого Облеухова, на тридцати лодках двинулись против течения могучей реки, стартовав от Мариинского поста в устье Амура.
С собой отряд Облеухова, помимо оружия, захватил продовольствия на 45 суток. В дальнейшем продовольствие планировали получать на немногочисленных казачьих постах, расставленных вдоль северного берега Амура.
Преодолеть весь путь против течения на вёслах было невозможно, и солдатам нередко приходилось идти по дикому берегу, вытягивая за собой лодки подобно бурлакам. Свидетелем этого стал забайкальский казак Роман Богданов: «13-й батальон мы обогнали в 15 или 20 верстах выше Мариинска; солдаты совсем не умели идти бичевой и страшно мучились, чем только напрасно изнуряли себя… Жара была страшная».
Казак Богданов, будучи одним из немногих грамотных, служил курьером, перевозившим сообщения между Забайкальем и устьем Амура. У него было немало знакомых в батальоне с несчастливым номером, их рассказы и личные наблюдения Богданов записал в дневнике, сохранив до наших дней эту страшную историю, как она виделась не большому начальству в штабах, а простым «нижним чинам», казакам и солдатам.
Ещё ничто не предвещало трагедию, но многие из отряда, возглавляемого командиром 13-го батальона, уже были обречены на смерть. Офицеры и генералы потом попробуют разобраться в причинах и виновниках трагедии, но рядовые однозначно возлагали вину на своего командира, подполковника Облеухова. «Очевидцы, которых мне пришлось спасти от голодной смерти, - свидетельствуют записки казака Романа Богданова, - рассказывали следующее: полковник Облеухов, пред отправкой его на Амур с батальоном, высватал себе невесту у богатого верхнеудинского купца и так был огорчён разлукой, так часто бредил скорейшим свиданием с нею, что целые ночи проводил без сна, а утром засыпал и не приказывал беспокоить его; вследствие этого, весь батальон ждал пробуждения командира и не имел права трогаться с места. Также говорили, что на одном и том же ночлеге приходилось жить от 2 до 3 дней; дорогой задавались пиры в честь именин будущей жены, тестя и тёщи, а равно праздновались стоянкой на месте все царские и церковные праздники. В этих торжествах и стоянках незаметно прошло лето…»
«Это обстоятельство немного опечалило солдат…»
Спустя два месяца тяжёлого пути, в начале октября 1856 года, отряд Облеухова достиг лишь местности, где ныне находится город Благовещенск. Отсюда до истоков Амура, где в месте слияния рек Шилки и Аругни в то время начинались русские поселения, оставалось ещё долгих 883 километра.
Первый тревожный признак заметили 4 октября. «Утро чрезвычайно холодное, в стакане на лодке замёрзла вода», - записал в походном дневнике подполковник Облеухов. Зима в тот год, действительно, пришла на Амур рано и оказалась очень суровой. Спустя трое суток подполковник запишет: «В первый раз выпал довольно глубокий снег. Это обстоятельство немного опечалило солдат…»
Прокрутите Вниз
1 && "cover" == "gallery"">
{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}
21 октября в 150 верстах к северо-западу от современного Благовещенска лодки отряда Облеухова достигли небольшого казачьего поста, располагавшегося на левом берегу Амура, напротив устья одного из его южных притоков - речки Кумары. Три века назад именно здесь располагался хорошо укреплённый Кумарский острог, основанный первопроходцами Ерофея Хабарова. В 1856 году казачий пост представлял из себя лишь одну землянку с печью.
У Кумарского поста отряд Облеухова и застигла зима - не календарная, а природная, начавшаяся в том году рано. Если 23 октября на Амуре заметили первые льдины, то спустя всего двое суток гладь реки покрыла «шуга» - мелкое ледяное крошево, предшествующее замерзанию. Отряд всё же попытался плыть дальше, но как записал в дневнике Облеухов: «Пройдя вёрст пять, были остановлены густым льдом, заставившим нас возвратиться…»
Свыше двух недель отряд оставался у Кумарского поста - доедали остатки припасов и ждали, когда Амур окончательно покроется крепким ледяным панцирем, по которому можно будет, как по дороге, идти сквозь заснеженную тайгу. Солдаты рубили берёзы и готовили самодельные сани. Продукты тем временем подходили к концу. За долгие месяцы таёжного похода износились и обувь с обмундированием, что ещё больше усугубляло трудности начинающейся зимы.
«Казалось, что сама природа вооружилась против нас, - вспоминал позднее Облеухов. - Кругом утёсы и густой лес, а дичи нет. Несколько отличных стрелков два дня ходили в хребтах и не имели случая разрядить винтовки. Пробовали ставить морды (плетёные из ветвей рыбацкие снасти - DV ) и не добыли ни одной рыбы, а её здесь летом так много, что иногда сазан из камыша у берега сам прыгает в лодку к немалому удивлению гребцов…»
Дичи в окрестностях, действительно не было - её распугали войска, проходившие по берегам Амура три последних года подряд. К 7 ноября река наконец полностью покрылась прочным льдом и через двое суток отряд двинулся пешком по Амуру, обходя встречавшиеся полыньи. С 11 ноября из продуктов у солдат оставался лишь небольшой запас сухарей.
Особенно мучительными становились ночи в тайге на морозе. Спустя почти два десятилетия, сам подполковник Облеухов вспоминал их так: «Выбрав место вблизи леса, солдаты тотчас же принимались разгребать снег, чтобы достать травы: без неё невозможно было зажечь обледенелые древесные ветви. Затем кипятили в походных котлах воду. Вместо чая солдаты варили траву и древесную кору, отогревая этой безвкусной жидкостью свои окоченелые члены. Под открытым небом, при 20° мороза и без тёплой одежды, солдаты не могли заснуть, не рискуя отморозить руки или ноги, а потому дремота ещё более изнуряла их. В таком апатическом состоянии мы проводили семнадцать часов в сутки. К довершению грустной картины часто слышен был вой волков, бродивших стаями в ожидании верной добычи. Изнурённые солдаты не имели сил глубоко закапывать трупы умерших. Не ради эффекта упомяну о том, что нападениям волков случалось подвергаться солдатам совершенно обессилившим, но ещё с признаками жизни…»
«Питаясь человеческим мясом, ожидая смерти…»
С этого времени начался распад отряда - отдельные группы голодных, обессилевших людей либо брели в снегу, либо надолго оставались у костров, не имея сил двигаться дальше. Подполковник Облеухов фактически бросил своих солдат - прихватив оставшуюся лошадь и последние четыре фунта крупы, он отправился вперёд под предлогом поиска помощи. От голода подполковник не умирал - накануне, по показаниям очевидцев, он съел свою любимую собаку.
Остававшимся в тайге солдатам подполковник отдал бычью шкуру, которой укрывался от мороза. Измученные голодом люди начали варить её, чтобы попытаться съесть. Согласно позднейшим воспоминаниям Облеухова, перед отъездом к нему обратился унтер-офицер по фамилии Просеков «с вопросом, заставившим меня содрогнуться, он интересовался нельзя ли взять на съедение труп умершего утром солдата...»
Дальнейший ужас описал простой забайкальский казак Роман Богданов, ставший спасителем для многих из несчастного отряда Облеухова. К середине декабря 1856 года в посёлке Усть-Стрелка, на тот момент самом восточном из русских селений близ Амура, от кочевников-эвенков узнали про умирающий отряд. Местные казаки тут же отправились на помощь.
Как вспоминал Роман Богданов: «В Усть-Стрелке снарядили транспорт из 24-х казачьих лошадей, и, снабдивши его провизией и тёплой одеждой, которую можно было найти в Усть-Стрелке, отправили меня и 6 казаков встречать голодающих и снабжать их провизией. Подполковник Облеухов приехал в Усть-Стрелку в день нашего выезда. Это было около середины декабря».
Прокрутите Вниз
1 && "cover" == "gallery"">
{{currentSlide + 1}} / {{countSlides}}
Дальнейшие воспоминания забайкальского казака рисуют страшную картину: «Ниже Албазина, около сидевшей на мели баржи с мукой, было несколько трупов умерших солдат - объелись с голода мукой и померли. Ниже этой баржи встречались раздирающие душу картины: солдаты, голодные, шли пешком при 35° мороза, в одних шинелях и фуражках, полуживые, обезображенные морозом, закоптевшие от дыма до неузнаваемости; одним словом, близко знакомого человека нельзя было узнать; руки и ноги изуродованы морозом…
На одном острове посреди Амура было много трупов, замёрзших в разных позах и, большей частию, погибших, должно полагать, от голода; у некоторых трупов были обрезаны задние части. На этом острове застали человек 20 или 25 живыми, которые по случаю неимения сапогов и разным другим причинам, не могли идти далее и остались тут, питаясь человеческим мясом, ожидая смерти.
В числе этих людей был раньше мне знакомый, унтер-офицер Безобразов; этот сознался, что ел человеческое мясо; а другой, юнкер Комаров (забайкальский уроженец), отпирался, что человеческое мясо не ел, а питался ремнями и кожей от ранцев и разной брошенной обувью. Он рассказывал случай, бывший с ним до нас дней за 10-ть: На острове было всего не менее 50 человек, почти все ели мясо мёртвых солдат, которое всем опротивело. В один прекрасный день, вечером, придумали бросить жребий - кого утром зарезать из живых, не будет ли мясо приятнее для пищи; жребий выпал на Комарова. С отчаяния, Комаров не спал всю ночь, молился Богу об избавлении его от этой смерти и, почти в чувстве невменяемости, пошёл в лес, чтоб помереть с голоду, чем хотел избавиться от съедения. Только что начало светать, он побежал с острова в протоку, против которого большая скала, увидел на протоке под скалой волка и убившегося падением со скалы изюбря; не веря глазам, Комаров начал звать своих товарищей; кто был в состоянии ходить, явились на зов, бывшие в силах разрезали зверя на куски и ушли с острова, а те, кто не мог идти далее, остались опять на этом острове ждать смерти…»
«Всякое следствие было бы слишком невыгодно…»
Казачий караван с едой и одеждой спас многих. Но из 374 человек отряда Облеухова к декабрю 1856 года умерли 98. Трагедия потрясла всех - однако никаких официальных последствий не было. Как позднее вспоминал генерал-майор Иван Венюков, прибывший в то время на берега Амура: «Несомненно, что случай людоедства был... В 1857 году один из этих людоедов находился на устье Зеи, то есть в теперешнем Благовещенске, и отбывал эпитимию (церковное наказание - DV ), которая была на него наложена духовными властями. Об уголовном преследовании, разумеется, не было и речи, потому что всякое следствие было бы слишком невыгодно - не для солдата, а для начальников».
Подполковник Облеухов отделался минимальными последствиями: вернувшись из несчастного похода, он сразу начал лечиться от «расстройства рассудка». Его понизили на один чин и вскоре уволили из армии «по болезни», что, однако, не помешало Облеухову в дальнейшем служить начальником полиции в нескольких сибирских городах. Спустя полтора десятилетия он даже опубликовал в одной из столичных газет мемуары, попытавшись отрицать свою вину в трагических событиях 1856 года. Лучше бы Облеухов этого не делал - вместе с рассказами других очевидцев, неловкие попытки оправданий лишь подчеркнули его неблаговидную роль.
Генерал-губернатор Муравьёв, хотя и был в 1856 году за тысячи вёрст от Амура, однако считал себя ответственным за всё, что происходит на далёкой реке. Именно по его приказу главный участник спасения людей из несчастного отряда, казак Роман Богданов, тщательно и без прикрас записал воспоминания обо всех ужасах. Генерал-губернатор просил «хранить эти записки для будущего потомства», но опубликовать лишь после его смерти.
Новым командиром несчастного 13-го батальона стал штабс-капитан Яков Дьяченко. Его воинский чин соответствовал современному званию лейтенанта, в армии Российской империи штабс-капитаны обычно командовали ротами. Поэтому в соответствии со всеми нормами армейской бюрократии Дьяченко будет окончательно утверждён на более высокую должность лишь спустя два года.
Но именно в этот промежуток времени переживший трагедию 13-й батальон и его до конца не оформленный командир навсегда войдут в историю Дальнего Востока - ими будет заложен будущий город Хабаровск.
30-летний штабс-капитан Яков Васильевич Дьяченко происходил, как тогда говорили, из «малороссийских дворян» - был уроженцем Полтавской губернии, поместий и богатств не имел. Родился он ровно 200 лет назад - 21 марта (2 апреля по новому стилю) 1817 года. В отличие от прежнего командира 13-го батальона свою службу Дьяченко начал не в столичной гвардии, а в провинциальных полках на западной границе необъятной Российской империи. В биографии нового комбата не было громких военных событий, он, что называется, всего лишь честно тянул лямку трудного армейского быта в забытых богом глухих гарнизонах. Но именно ему предстояло стать первостроителем самого крупного русского города в Приамурье.
«Войска эти способствуют заселению края…»
Лето 1857 года 13-й батальон вновь встретил в тайге на берегу Амура. Земли к северу от великой реки ещё не были окончательно присоединены к России, и генерал-губернатор Муравьёв спешил до начала пограничных переговоров с китайцами построить здесь первые русские посты и селения.
Спустя два десятилетия очевидец и участник этих событий генерал-майор Иван Венюков издаст книгу «Воспоминания о заселении Амура». Он так опишет первые дни лета 1857 года в устье реки Зеи, там, где сегодня находится город Благовещенск: «Прибыл третий курьер, он привёз план предположенной Усть-Зейской станицы, очень изящно начерченный. Тут было всё: и церковь, и больница, и дома разных властей, и разные канцелярии (без этого уж нельзя); но проект, совершенно годный для сооружения города на Семёновском плацу в Петербурге или вообще где угодно, не подходил именно к равнине, на которой предполагалось его осуществить. Реки Зея и Амур дали почве этой равнины совсем не то очертание, какое требовалось по проекту. И вот чертежом полюбовались и свернули его, а первая улица в новой колонии потянулась вдоль гребня небольшой высоты по проекту капитана Дьяченко…»
Так новый командир 13-го батальона оказался среди строителей будущего города Благовещенска, который первые два года с момента основания назывался Усть-Зейской станицей. В конце лета 1857 года Яков Дьяченко трудился уже в 150 верстах к северо-западу от будущего города - строил вместе с солдатами ещё одно новое поселение. «На Кумаре, - вспоминал генерал Венюков, - в небольшой узкой долине левого берега Амура, против устья Кумары, где строилась станица Кумарская, я нашёл командовавшего 13-м батальоном капитана Дьяченко. Это был один из наиболее полезных деятелей по заселению Амура. Спокойный, ровный характер, распорядительность, умение обходиться с солдатами и казаками, с начальствами, доставили ему общее уважение амурцев. И у него в станице постройки шли живо, а число домов было значительнее, чем где-нибудь…»
В следующем 1858 году 13-му батальону и его командиру предстояло вести строительство ещё восточнее - там, где в Амур впадает река Уссури. Для восполнения прежних потерь в батальон прислали несколько десятков солдат из европейской части России - благодаря архивам, мы сегодня знаем, что новые строители прибыли на Амур из Саратова, Пензы, Перми и Нижнего Новгорода.
Так в последний день мая 1858 года капитан Яков Дьяченко и солдаты его 13-го батальона оказались на месте будущего Хабаровска. Именно они начали первые работы по строительству Хабаровки - военного поста, из которого позднее вырастет самый большой русский город на Амуре. Генерал Иван Венюков, тогда служивший офицером в штабе губернатора Муравьёва, сравнивая ход работ в новых поселениях, отметил, что лучше всего шло строительство у 13-го батальона: «Зато Хабаровка, поставленная на превосходном, возвышенном берегу, представляла утешительный вид. Здесь работы, под управлением того же Дьяченко, который в прошлом году строил станицу Кумарскую, шли очень успешно, возникали не только дома, но и лавки с товарами, даже заложена была небольшая церковь или часовня на пригорке, видном издалека».
Казармы 13-го батальона и первые строения будущего города располагались на склонах утёса, который сегодня украшает памятник Муравьёву-Амурскому. Полтора века назад здесь стояла и упомянутая Венюковым церковь - часовня Марии Магдалины, построенная солдатами 2-й роты 13-го батальона.
Подавляющее большинство рядовых тогда были неграмотными, поэтому они не оставили для нас мемуаров. В отличие от боевых подвигов или тяжёлых походов их труд посреди дикой тайги не считался у современников достойным подробного описания. Сегодня мы знаем лишь отдельные имена тех, кто основал столицу Хабаровского края - благодаря сохранившимся в архивах отдельным рапортам капитана Дьяченко поимённо известны примерно двести первостроителей. Среди них было несколько «нижних чинов», приехавших на берега Амура с семьями. Унтер-офицер (сержант) Пётр Казаков прибыл с женой Александрой и маленькой дочерью, рядовой Александр Мисюрокеев - с женой Марьей и двумя сыновьями. С жёнами приехали рядовые Харлампий Мурашев, Иван Гадольшин и Григорий Большешапов. Именно эти солдаты 13-го батальона и их родные стали первыми жителями будущего Хабаровска.
«Зная лично командира этого батальона…»
Только осенью 1859 года Яков Дьяченко получил чин майора и был официально утверждён в должности командира своего батальона. В июне 1860 года один из очевидцев освоения Амура так отозвался о 13-ом батальоне, сравнивая деятельность Дьяченко с прежней ситуацией: «Зная же лично командира этого батальона, смело могу сказать, что, не смотря на неимоверные труды, понесённые нижними чинами батальона, они и здоровы, и обеспечены всем необходимым».
Батальон основателей Хабаровска к тому времени не только оправился от былой трагедии, но и расстался со своим «несчастливым» номером. Отныне он официально именовался «3-й Восточно-Сибирский линейный батальон». Майору Дьяченко в то время пришлось, помимо своих солдат, заниматься и созданием Амурского казачьего войска, и размещением первых русских крестьян, переселявшихся в Приамурье и Приморье.
В 1859 году эти края по поручению Императорского географического общества посетил петербургский учёный-натуралист Ричард Маак. Он так описал плоды деятельности Якова Дьяченко и его батальона: «Многие места правого берега Уссури кипели жизнью; всё было в движении и занято постройкою необходимых для первого обзаведения изб и зданий, которые строились солдатами линейного батальона из Хабаровки».
«Батальон из Хабаровки» основал на берегах Амура и Уссури десятки сёл. Одна из новых казачьих станиц получила наименование Дьяченкова - в честь командира первостроителей.
В 1866 году, спустя восемь лет после рождения будущей столицы Хабаровского края, Яков Дьяченко был переведён на 700 вёрст дальше, в самую тогда глушь - руководить «Новгородской постовой командой», ныне территория посёлка Посьет на южной оконечности Приморья, где соприкасаются границы России, Кореи и Китая. Эти земли начали обживать ещё позже, чем берега Амура. Здесь Якову Дьяченко пришлось не только осваивать самый край нашей страны, но и руководить борьбой с набегами китайских бандитов-«хунхузов». Среди его подчинённых были и солдаты, составлявшие первый гарнизон будущего города Владивостока.
editorial@сайт
Все, повидимому, и даже природа сама, вооружилось против господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден; он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, дескать, не оставить ли все это так, не отступиться ли запросто? Ну, что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я, - думал господин Голядкин, - пропускаю все мимо; не я, да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смирением возьму. Да и где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плевое дело! обыкновенное дело!..» Здесь господин Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущею необходимостью; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтоб времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? - подумал он сам в себе. - Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович? Что-то ты сделаешь? Что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего ваньки. Поддразнивать себя и растравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. «Ну, если б там, теперь, - думал он, - волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь этак пришлось, да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки - и квиты с тобой; не будет другого Голядкина, и ты будешь счастлив, только пальца не будет, - так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщась бы отдал. Черти бы взяли все это! - вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник, - ну, зачем все это? Ну, надобно было всему этому быть; вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому чему! И все было хорошо сначала, все были довольны и счастливы; так вот нет же, надобно было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно действовать».
Итак, почти решившись на что-то, господин Голядкин, войдя в свою квартиру, нимало не медля схватился за трубку и, насасывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал сбирать на стол. Наконец господин Голядкин решился совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Голядкин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтоб не подумал чего Петрушка особенного, - что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т.д., - но так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и господин Голядкин без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что все, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филипповичу. «Впрочем, не лучше ли завтра? - думал господин Голядкин, хватаясь за снурок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, - да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное да оно, наконец, и действительно мизерное, плевое, то есть почти плевое дело… ведь вот оно, как это все, обстоятельство-то…» Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик; зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги… Тут господин Голядкин даже проклял себя, отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно: дверь отворилась. К счастию господина Голядкина отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности, и не обедает дома. «Знаю, где он обедает: он у Измайловского моста обедает». - подумал герой наш и страх как обрадовался. На вопрос слуги, как об вас доложить сказал, что, дескать, я, мой друг, хорошо, что дескать, я мой друг, после, и даже с некоторою бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, - дескать, ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости не жалел, - то дал и прибавочки пятачок, и даже с большою охотою; сам же пешком пошел.
«Дело-то оно, правда, такое, - думал господин Голядкин, - что ведь так оставить нельзя; однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, нет, однако ж, я буду все про то говорить, из чего же мне хлопотать? из чего мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь… ведь не воротишь! Рассудим так: является человек, - является человек с достаточной рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потерпел разные неприятности, - передряги там этакие, - ну, да ведь бедность не порок; стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж за вздор такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли уж судьба, коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, - так уж его и затереть, как ветошку, так уж и служить ему не давать…да где же тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запуганный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего сказать, хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, забубенная голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас глупости хватит! Нет, нет! и сделали хорошо, и спасибо им, что призрели бедного горемыку… Ну, да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только, - вот оно как! Ну, что же такое? Ну, и ничего! Можно всех чиновников приучить… а посторонний кто, войдя в наше ведомство, уж, верно, не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное; что вот, дескать, мысль-то какая: что, дескать, промысл божий создал двух совершенно подобных, а начальство благодетельное, видя промысл божий, приютило двух близнецов. Оно, конечно, - продолжал господин Голядкин, переводя дух и немного понизив голос, - оно, конечно… оно, конечно, лучше бы было, кабы не было ничего этого, умилительного, и близнецов никаких тоже бы не было… Черт бы побрал все это! И на что это нужно было? И что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая?! Господи бог мой! Эк ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь, однакож, у него и характер такой, нрава он такого игривого, скверного, - подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилью мою замарает, мерзавец. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эк ведь наказание какое! Впрочем, что ж? ну, и нужды нет! ну, он подлец, - ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну, вот он подлец будет, а я буду честный, - и скажут, что вот этот Голядкин подлец, на него не смотрите и его с другим не мешайте; а этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма надежный по службе и к повышению чином достойный; вот оно как! Ну, хорошо… а как, того… А как они там, того… да и перемешают! От него ведь все станется! Ах ты, господи боже мой!.. И подменит человека, подменит, подлец такой, - как ветошку человека подменит и не рассудит, что человек не ветошка. Ах ты, господи боже мой! Эко несчастие какое!..»
Вот таким-то образом рассуждая и сетуя, бежал господин Голядкин, не разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Голядкин, не поднимая головы, пробормотал извинение, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос верху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором отдыхал, приготовляясь к званому обеду у Олсуфия Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице в ресторан перехватить что-нибудь поскорее, и как можно торопясь не замешкать. И хотя в ресторане было все дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате, у прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Голядкин подождал своей очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку растегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь спиною к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтоб указать ему:"что вот,дескать,монетка лежит; один растегайчик» и т.д.
С вас рубль десять копеек, - процедил сквозь зубы конторщик.
Господин Голядкин порядочно изумился.
Вы мне говорите?.. Я… я, кажется, взял один пирожок.
Одиннадцать взяли, - с уверенностью возразил конторщик.
Вы… сколько мне кажется… вы, кажется, ошибаетесь… Я, право, кажется, взял один пирожок.
Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно платить, у нас даром ничего не дают.
Господин Голядкин был ошеломлен. «Что ж это, колдовство, что ль какое надо мной совершается?» - подумал он. Между тем конторщик ожидал решения господина Голядкина; господина Голядкина обступили; господин Голядкин уже полез было в карман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, чтоб от греха-то подальше быть. «Ну, одиннадцать так одиннадцать, - думал он, краснея как рак, - ну, что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? Ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на здоровье; ну, и дивиться тут нечему и стесняться тут нечему…» Вдруг как будто что-то кольнуло господина Голядкина; он поднял глаза и - разом понял загадку, понял все колдовство: разом разрешились все затруднения… В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиною конторщика и лицом к господину Голядкину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человечек, стоял он, стоял сам господин Голядкин, - не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин. Другой господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Голядкину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что, - так он и стушуется, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того… и все преследования останутся тщетными. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он, в глазах же господина Голядкина, отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. « Подменил, подлец! - подумал господин Голядкин, вспыхнув как огонь от стыда, - не постыдился публичности! Видят ли его? Кажется, не замечает никто…» Господин Голядкин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая значительно-наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека! - подумал старший господин Голядкин. - Спасибо разбойнику, и ему и судьбе, что еще хорошо все уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве! Рубль десять следовало, так и был в своем праве. Дескать, без денег у нас никому не дают! Хоть бы был поучтивей, бездельник!..»
Всё, по-видимому, и даже природа сама, вооружилось против господина Голядкина; но он еще был на ногах и не побежден; он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взяться, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, дескать, не оставить ли всё это так, не отступиться ли запросто? Ну, что ж? ну, и ничего. Я буду особо, как будто не я, думал господин Голядкин, пропускаю всё мимо; не я, да и только; он тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и отступится. Вот оно как! Я смирением возьму. Да и где же опасность? ну, какая опасность? Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность? Плевое дело! обыкновенное дело!..» Здесь господин Голядкин осекся. Слова у него на языке замерли; он даже ругнул себя за эту мысль; даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль; однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту было для него сущею необходимостью; даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтоб времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Что? каково-то ты теперь себя чувствуешь? подумал он сам в себе. Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович? Что-то ты сделаешь? Что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой! Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь!» Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего ваньки. Поддразнивать себя и растравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Голядкина, даже чуть ли не сладострастием. «Ну, если б там теперь, думал он, волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь этак пришлось, да сказали бы: дай, Голядкин, палец с правой руки и квиты с тобой; не будет другого Голядкина, и ты будешь счастлив, только пальца не будет, так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщась бы отдал. Черти бы взяли всё это! вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник, ну, зачем всё это? Ну, надобно было всему этому быть; вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому чему! И всё было хорошо сначала, все были довольны и счастливы; так вот нет же, надобно было! Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно действовать». Итак, почти решившись на что-то, господин Голядкин, войдя в свою квартиру, нимало не медля схватился за трубку и, насасывая ее из всех сил, раскидывая клочья дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал сбирать на стол. Наконец господин Голядкин решился совсем, вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Голядкин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтоб не подумал чего Петрушка особенного, что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и т. д., но так как Петрушка и глядеть не хотел и тотчас ушел, то и господин Голядкин без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что всё, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филипповичу. «Впрочем, не лучше ли завтра? думал господин Голядкин, хватаясь за снурок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича, да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное, да оно, наконец, и действительно мизерное, плевое, то есть почти плевое дело... ведь вот оно, как это всё, обстоятельство-то...» Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик; колокольчик зазвенел, изнутри послышались чьи-то шаги... Тут господин Голядкин даже проклял себя, отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем тут же пришли ему на память. Но уже бежать было поздно: дверь отворилась. К счастию господина Голядкина, отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности, и не обедает дома. «Знаю, где он обедает: он у Измайловского моста обедает», подумал герой наш и страх как обрадовался. На вопрос слуги, как об вас доложить, сказал, что, дескать, я, мой друг, хорошо, что, дескать, я, мой друг, после, и даже с некоторою бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, дескать, ждал, сударь, долго и рысачка для вашей милости не жалел, то дал и прибавочки пятачок, и даже с большою охотою; сам же пешком пошел. «Дело-то оно, правда, такое, думал господин Голядкин, что ведь так оставить нельзя; однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, нет, однако ж, я буду всё про то говорить, из чего же мне хлопотать? из чего мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь... ведь не воротишь! Рассудим так: является человек, является человек с достаточной рекомендацией, дескать, способный чиновник, хорошего поведения, только беден и потерпел разные неприятности, передряги там этакие, ну, да ведь бедность не порок; стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж за вздор такой? Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! Коли уж судьба, коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, так уж его и затереть, как ветошку, так уж и служить ему не давать... да где же тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запуганный; тут сердце болит, тут сострадание его призреть велит! Да! нечего сказать, хороши бы были начальники, если б так рассуждали, как я, забубенная голова! Эка ведь башка у меня! На десятерых подчас глупости хватит! Нет, нет! и сделали хорошо, и спасибо им, что призрели бедного горемыку... Ну, да, положим, например, что мы близнецы, что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только, вот оно как! Ну, что же такое? Ну, и ничего! Можно всех чиновников приучить... а посторонний кто, войдя в наше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное; что вот, дескать, мысль-то какая: что, дескать, промысл божий создал двух совершенно подобных, а начальство благодетельное, видя промысл божий, приютило двух близнецов. Оно, конечно, продолжал господин Голядкин, переводя дух и немного понизив голос, оно, конечно... оно, конечно, лучше бы было, кабы не было ничего этого, умилительного, и близнецов никаких тоже бы не было... Черт бы побрал всё это! И на что это нужно было? И что за надобность тут была такая особенная и никакого отлагательства не терпящая?! Господи бог мой! Эк ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь, однако ж, у него и характер такой, нрава он такого игривого, скверного, подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, Голядкин он этакой! Пожалуй, еще дурно себя поведет да фамилью мою замарает, мерзавец. Вот теперь и смотри за ним и ухаживай! Эк ведь наказание какое! Впрочем, что ж? ну, и нужды нет! Ну, он подлец, ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну, вот он подлец будет, а я буду честный, и скажут, что в этот Голядкин подлец, на него не смотрите и его с другим не мешайте; а этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобивый, весьма надежный по службе и к повышению чином достойный; вот оно как! Ну, хорошо... а как, того... А как они там, того... да и перемешают! От него ведь всё станется! Ах ты, господи боже мой!.. И подменит человека, подменит, подлец такой, как ветошку человека подменит и не рассудит, что человек не ветошка. Ах ты, господи боже мой! Эко несчастие какое!..» Вот таким-то образом рассуждая и сетуя, бежал господин Голядкин, не разбирая дороги и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то по тому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Голядкин, не поднимая головы, пробормотал извинение, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лестное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором отдыхал, приготовляясь к званому обеду у Олсуфия Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку, вспомнил, что не обедал, званого же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице в ресторан перехватить что-нибудь поскорее и как можно торопясь не замешкать. И хотя в ресторане было всё дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Голядкина; да и останавливаться-то теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате, у прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Голядкин подождал своей очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку-расстегайчику. Отойдя в уголок, оборотясь спиною к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтоб указать ему: «что вот, дескать, монетка лежит; один расстегайчик» и т. д. С вас рубль десять копеек, процедил сквозь зубы конторщик. Господин Голядкин порядочно изумился. Вы мне говорите?.. Я... я, кажется, взял один пирожок. Одиннадцать взяли, с уверенностью возразил конторщик. Вы... сколько мне кажется... вы, кажется, ошибаетесь... Я, право, кажется, взял один пирожок. Я считал; вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно платить; у нас даром ничего не дают. Господин Голядкин был ошеломлен. «Что ж это, колдовство, что ль, какое надо мной совершается?» подумал он. Между тем конторщик ожидал решения господина Голядкина; господина Голядкина обступили; господин Голядкин уже полез было в карман, чтоб вынуть рубль серебром, чтоб расплатиться немедленно, чтоб от греха-то подальше быть. «Ну, одиннадцать так одиннадцать, думал он, краснея как рак, ну, что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков? Ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков; ну, и пусть ест себе на здоровье; ну, и дивиться тут нечему и смеяться тут нечему...» Вдруг как будто что-то кольнуло господина Голядкина; он поднял глаза и разом понял загадку, понял всё колдовство; разом разрешились все затруднения... В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиною конторщика и лицом к господину Голядкину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человечек, стоял он, стоял сам господин Голядкин, не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин. Другой господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Голядкину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что, так он и стушуется, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того... и все преследования останутся тщетными. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он, в глазах же господина Голядкина, отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. «Подменил, подлец! подумал господин Голядкин, вспыхнув как огонь от стыда, не постыдился публичности! Видят ли его? Кажется, не замечает никто...» Господин Голядкин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая значительно-наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека! подумал старший господин Голядкин. Спасибо разбойнику, и ему и судьбе, что еще хорошо всё уладилось. Нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве! Рубль десять следовало, так и был в своем праве. Дескать, без денег у нас никому не дают! Хоть бы был поучтивей, бездельник!..» Всё это говорил господин Голядкин, сходя с лестницы на крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился как вкопанный и вдруг покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиции. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, в один прыжок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой, в Шестилавочную улицу. Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно трубки, уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрожащею от внутреннего волнения рукой следующее послание:«Милостивый государь мой,
Яков Петрович!
покорнейшим вашим слугою
Я. Голядкиным».
«Ну, вот и всё хорошо. Дело сделано; дошло и до письменного. Но кто ж виноват? Он сам виноват: сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве...» Перечитав последний раз письмо, господин Голядкин сложил его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился, по обыкновению своему, с заспанными глазами и на что-то крайне сердитый. Ты, братец, вот, возьмешь это письмо... понимаешь? Петрушка молчал. Возьмешь его и отнесешь в департамент; там отыщешь дежурного, губернского секретаря Вахрамеева. Вахрамеев сегодня дежурный. Понимаешь ты это? Понимаю. Понимаю! Не можешь сказать: понимаю-с. Спросишь чиновника Вахрамеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего ведомства книге где, дескать, живет титулярный советник Голядкин? Петрушка промолчал и, как показалось господину Голядкину, улыбнулся. Ну, так вот ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, живет новопоступивший чиновник Голядкин? Слушаю. Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо; понимаешь? Понимаю. Если там... вот куда ты письмо отнесешь, тот господин, кому письмо это дашь, Голядкин-то... Чего смеешься, болван? Да чего мне смеяться-то? Что мне! Я ничего-с. Нечего нашему брату смеяться... Ну, так вот... если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как же он там; что, дескать, он, того... ну, там, что-нибудь будет выспрашивать, так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой ничего, а просят, дескать, ответа от вас своеручного. Понимаешь? Понимаю-с. Ну, так вот, дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается; а от вас, дескать, они ответа просят письменного. Понимаешь? Понимаю. Ну, ступай. «Ведь вот еще с этим болваном работа! смеется себе, да и кончено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды, дожил я вот таким-то образом до беды! Впрочем, может быть, оно обратится всё к лучшему... Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь, пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка беда ведь какая!.. эка ведь беда одолела какая!..» Чувствуя, таким образом, вполне беду свою, герой наш решился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку, потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел было он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. Наконец агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин Голядкин решился принять одну меру. «Петрушка придет еще через час, думал он, можно ключ отдать дворнику, а сам я покамест и, того... исследую дело, по своей части исследую дело». Не теряя времени и спеша исследовать дело, господин Голядкин взял свою шляпу, вышел из комнаты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключ вместе с гривенником, господин Голядкин стал как-то необыкновенно щедр, и пустился, куда ему следовало. Господин Голядкин пустился пешком, сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел прямо во двор своего знакомого дома и взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гардинами окон, остальные все были темны. «У Олсуфья Ивановича сегодня, верно, нет гостей, подумал господин Голядкин, они, верно, все одни теперь дома сидят». Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже на что-то решиться. Но решению не суждено было состояться, по-видимому. Господин Голядкин отдумал, махнул рукой и воротился на улицу. «Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать?.. А вот я лучше теперь, того... и собственнолично исследую дело». Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой департамент. Путь был не близок, вдобавок была страшная грязь и мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измок-то он измок, правда, да и загрязнился немало, «да уж так, заодно, зато цель достигнута». И действительно, господин Голядкин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строения уже зачернела вдали перед ним. «Стой! подумал он, куда ж я иду и что я буду здесь делать? Положим, узнаю где он живет; а между тем Петрушка уже, верно, вернулся и ответ мне принес. Время-то я мое дорогое только даром теряю, время-то я мое только так потерял. Ну, ничего; еще всё это можно исправить. Однако, и в самом деле, не зайти ль к Вахрамееву? Ну, да нет! я уж после... Эк! выходить-то было вовсе не нужно. Да нет, уж характер такой! Сноровка такая, что нужда ли, нет ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать... Гм... который-то час? уж верно, есть девять. Петрушка может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел... Эх, право, комиссия!» Искренно сознавшись таким образом, что сделал чистую глупость, герой наш побежал обратно к себе в Шестилавочную. Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка и не думал являться. «Ну, так! уж я предчувствовал это, подумал герой наш, а между тем уже девять часов. Эк ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! Господи бог мой! экой ведь денек выдался на долю мою горемычную!» Таким-то образом размышляя и сетуя, господин Голядкин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голодный, прилег на диван в ожидании Петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах... Господин Голядкин глядел-глядел, думал-думал, да и заснул наконец как убитый. Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась и готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин Голядкин вскочил, встрепенулся и вспомнил всё, решительно всё. За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин Голядкин бросился к окну нигде ни огонька. Отворил форточку тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, часа два или три; так и есть: часы за перегородкой понатужились и пробили два. Господин Голядкин бросился за перегородку. Кое-как, впрочем после долгих усилий, растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут с десять прошло, покамест господин Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызнова. «Мерзавец ты этакой, негодяй ты такой! проговорил господин Голядкин, снова его расталкивая, встанешь ли ты, проснешься ли ты?» После получасовых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, мертвецки пьян и едва на ногах держался. Бездельник ты этакой! закричал господин Голядкин. Разбойник ты этакой! голову ты срезал с меня! Господи, куда же это он письмо-то сбыл с рук? Ахти, создатель мой, ну, как оно... И зачем я его написал? и нужно было мне его написать! Расскакался, дуралей, я с амбицией! Туда же полез за амбицией! Вот тебе и амбиция, подлец ты этакой, вот и амбиция!.. Ну, ты! куда же ты письмо-то дел, разбойник ты этакой? Кому же ты отдал его?.. Никому я не отдавал никакого письма; и не было у меня никакого письма... вот как! Господин Голядкин ломал руки с отчаяния. Слушай ты, Петр... ты послушай, ты слушай меня... Слушаю... Ты куда ходил? отвечай... Куда ходил... к добрым людям ходил! что мне! Ах ты, господи боже мой! Куда сначала ходил? был в департаменте?.. Ты послушай, Петр; ты, может быть, пьян? Я пьян? Вот хоть сейчас с места не сойти, мак-мак-маковой вот... Нет, нет, это ничего, что ты пьян... Я только так спросил; это хорошо, что ты пьян; я ничего, Петруша, я ничего... Ты, может быть, только так позабыл, а всё помнишь. Ну-ка, вспомни-ка, был ты у Вахрамеева, чиновника, был или нет? И не был, и чиновника такого не бывало. Вот хоть сейчас... Нет, нет, Петр! Нет, Петруша, ведь я ничего. Ведь ты видишь, что я ничего... Ну, что ж такое! Ну, на дворе холодно, сыро, ну, выпил человек маленько, ну, и ничего... Я не сержусь. Я сам, брат, выпил сегодня... Ты признайся, вспомни-ка, брат: был ты у чиновника Вахрамеева? Ну, как теперь, вот этак пошло, так, право слово, вот был же, вот хоть сейчас... Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не сержусь... Ну, ну, продолжал наш герой, еще более задабривая своего служителя, трепля его по плечу и улыбаясь ему, ну, клюкнул, мерзавец, маленько... на гривенник, что ли, клюкнул? плут ты этакой! Ну, и ничего; ну, ты видишь, что я не сержусь... я не сержусь, братец, я не сержусь... Нет, я не плут, как хотите-с... К добрым людям только зашел, а не плут, и плутом никогда не бывал... Да нет же, нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, Петруша, польстить иному человеку, как сказать ему, что он петля этакая, продувной малый, что он малый не промах и никому надуть себя не позволит. Это любит иной человек... Ну, ну, ничего! ну, скажи же ты мне, Петруша, теперь без утайки, откровенно, как другу... ну, был ты у чиновника Вахрамеева и адрес он дал тебе? И адрес дал, тоже и адрес дал. Хороший чиновник! И барин твой, говорит, хороший человек, очень хороший, говорит, человек; я, дескать, скажи, говорит, кланяйся, говорит, своему барину, благодари и скажи, что я, дескать, люблю, вот, дескать, как уважаю твоего барина! за то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит, и ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша, вот... Ах ты, господи боже мой! А адрес-то, адрес-то, Иуда ты этакой? Последние слова господин Голядкин проговорил почти шепотом. И адрес... и адрес дал. Дал? Ну, где же живет он, Голядкин, чиновник Голядкин, титулярный советник? А Голядкин будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице. Вот как пойдешь, говорит, в Шестилавочную, так направо, на лестницу, в четвертый этаж. Вот тут тебе, говорит, и будет Голядкин... Мошенник ты этакой! закричал наконец вышедший из терпения герой наш. Разбойник ты этакой! да это ведь я; ведь это ты про меня говоришь. А то другой есть Голядкин; я про другого говорю, мошенник ты этакой! Ну, как хотите! что мне! Вы как хотите вот!.. А письмо-то, письмо... Какое письмо? и не было никакого письма, и не видал я никакого письма. Да куда же ты дел его шельмец ты такой?! Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, говорит, благодари; хороший твой, говорит, барин. Кланяйся, говорит, твоему барину... Да кто же это сказал? Это Голядкин сказал? Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя прямо в глаза своему барину. Слушай, ты, разбойник ты этакой! начал господин Голядкин, задыхаясь, теряясь от бешенства, что ты сделал со мной! Говори ты мне, что ты сделал со мной! Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял, Иуда ты этакой! Ну, теперь как хотите! что мне! сказал решительным тоном Петрушка, ретируясь за перегородку. Пошел сюда, пошел сюда, разбойник ты этакой!.. И не пойду я к вам теперь, совсем не пойду. Что мне! Я к добрым людям пойду... А добрые люди живут по честности, добрые люди без фальши живут и по двое никогда не бывают... У господина Голядкина и руки и ноги оледенели, и дух занялся... Да-с, продолжал Петрушка, их по двое никогда не бывает, бога и честных людей не обижают... Ты бездельник, ты пьян! Ты спи теперь, разбойник ты этакой! А вот завтра и будет тебе, едва слышным голосом проговорил господин Голядкин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то; потом слышно было, как он налег на кровать, так что кровать затрещала, протяжно зевнул, потянулся и наконец захрапел сном невинности, как говорится. Ни жив ни мертв был господин Голядкин. Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться, следственно, нечего было, тем более что пьяный человек говорил, и, наконец, весь злокачественный оборот, принимаемый делом, всё это потрясло до основания Голядкина. «И дернуло меня его распекать среди ночи, говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения. И подсунуло меня с пьяным человеком связаться! Какого толку ждать от пьяного человека! что ни слово, то врет. На что это, впрочем, он намекал, разбойник он этакой? Господи боже мой! И зачем я все эти письма писал, я-то, душегубец; я-то, самоубийца я этакой! Нельзя помолчать! Надо было провраться! Ведь уж чего! Погибаешь, ветошке подобишься, так ведь нет же, туда же с амбицией, дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать! Самоубийца я этакой!» Так говорил господин Голядкин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на одном предмете, в высочайшей степени возбудившем его внимание. В страхе не иллюзия ли, не обман ли воображения предмет, возбудивший внимание его, протянул он к нему руку, с надеждою, с робостию, с любопытством неописанным... Нет, не обман! не иллюзия! Письмо, точно письмо, непременно письмо, и к нему адресованное... Господин Голядкин взял письмо со стола. Сердце в нем страшно билось. «Это, верно, тот мошенник принес, подумал он, и тут положил, а потом и забыл; верно, так всё случилось; это, верно, именно так всё случилось...» Письмо было от чиновника Вахрамеева, молодого сослуживца и некогда приятеля господина Голядкина. «Впрочем, я всё это заранее предчувствовал, подумал герой наш, и всё то, что в письме теперь будет, также предчувствовал...» Письмо было следующее:«Милостивый государь,
Яков Петрович!
покорным слугою вашим
Н. Вахрамеевым.
P. S. Вы вашего человека сгоните: он пьяница и приносит вам, по всей вероятности, много хлопот, а возьмите Евстафия, служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но, сверх того, вор, ибо еще на прошлой неделе продал фунт сахару, в виде кусков, Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, по-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая добра, несмотря на то что некоторые особы умеют только обижать и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обладающих добрым характером; сверх того, заочно поносят их и представляют их в обратном смысле, единственно из зависти и потому, что сами себя не могут назвать таковыми. Прочтя письмо Вахрамеева, герой наш долго еще оставался в неподвижном положении на диване своем. Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать... Попробовал было он встать с дивана и пройтись раз и другой по комнате, чтоб освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, устремить их на известный предмет и потом, поправив себя немного, зрело обдумать свое положение. Но только что хотел было он привстать, как тут же в немощи и бессилии, упал опять на прежнее место. «Оно, конечно, я это всё заранее предчувствовал; однако же как же он пишет и каков прямой смысл этих слов? Смысл-то я, положим, и знаю; но куда это поведет? Сказал бы прямо: вот, дескать, так-то и так-то, требуется то-то и то-то, я бы и исполнил. Турнюра-то, оборот-то, принимаемый делом, такой неприятный выходит! Ах, как бы поскорее добраться до завтра и поскорее добраться до дела! теперь же я знаю, что делать. Дескать, так и так, скажу, на резоны согласен, чести моей не продам, а того... пожалуй; впрочем, он-то, особа-то эта известная, лицо-то неблагоприятное как же сюда подмешалось? и зачем именно подмешалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они, в пику работают! Главное времени не нужно терять, а теперь, например, хоть письмо написать и только пропустить, что, дескать, то-то и то-то и вот на то-то и то-то согласен. А завтра чем свет отослать, и самому пораньше, того... и с другой стороны им в контру пойти, и предупредить их, голубчиков... Ославят они меня, да и только!» Господин Голядкин подвинул бумагу, взял перо и написал следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря Вахрамеева:«Милостивый государь,
Нестор Игнатьевич!
вашим покорным слугою
Я. Голядкин».
Это произведение перешло в общественное достояние. Произведение написано автором, умершим более семидесяти лет назад, и опубликовано прижизненно, либо посмертно, но с момента публикации также прошло более семидесяти лет. Оно может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.